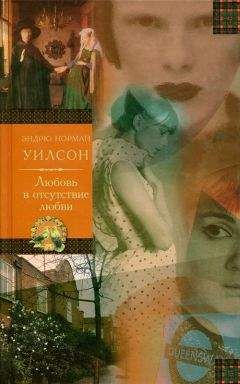— Русским.
— Шутишь? Неужели у нее кто-то есть?
— Русским языком занимается.
— Уф… А я-то было размечталась, что она себе какого-нибудь красавца славянина откопала. А что? С нее станется. Она, часом, не в разведке работает?
— Какой славянин, какая разведка! Она ж у нас скромница. Ей бы в монашки податься, а ты говоришь «шпионка».
— Бел, ты же не хочешь сказать, что она ни разу…
Предполагаемая девственность Моники была запретной темой, которая, тем не менее, то и дело всплывала в их разговорах. Они, как им казалось, могли понять любые отклонения, но невинность казалась им чем-то неприличным. Особенно в их возрасте.
— Откуда я знаю… Из нее слова лишнего не вытянешь… А со стороны смотришь — вроде такая умница, так во всем разбирается… У вас с ней, кстати, много общего, Рич… А я так, сбоку припека.
— Жалко ее, такая красота пропадает.
— Иногда ты меня просто поражаешь. Ну с чего ты взяла, что пропадает. В конце концов, можно прекрасно прожить и без секса.
— Ты с ума сошла! — Ричелдис расхохоталась. — Как же без этого? Зачем же морить себя голодом?
У Белинды рот приоткрылся от удивления, но Рич этого не заметила. Леди Мейсон была в полной растерянности. Она считала, что Саймона потянуло на сторону из-за охлаждения супружеских отношений, а оказывается, никаким охлаждением и не пахнет. Во всяком случае, со стороны подруги.
— У тебя такой вид, будто я сказала что-то неприличное, — запоздало спохватилась Ричелдис.
— Нет-нет, — неуверенно ответила Белинда. — Меня этим не проймешь. Странно, что ты до сих пор придаешь постели такое значение. Даже образцовые пары, подолгу живя в браке, незаметно расползаются по разным комнатам, это происходит как-то само собой.
— И все они несчастны.
— По-моему, ты не права. Некоторые люди по натуре одиночки. Моника из них. Я уверена.
— Может быть, но так не должно быть. Ладно, пошли, а то Саймон будет волноваться. — Ричелдис заторопилась по сужающейся тропинке обратно к дому.
Взгляд леди Мейсон последовал за ней. Нелепая шляпка смешно подпрыгивала на макушке подруги, удаляющейся в заросли боярышника и шиповника. Она не оглядывалась, уверенная, что Белинда идет следом, и, улыбаясь своим мыслям, думала о том, как ей, Ричелдис, повезло в жизни — удивительно, чертовски, невероятно повезло.
Из проигрывателя лилась мелодия Бартока,[32] наполняя комнату прозрачной грустью. Откуда она взялась? Может, потому что подступал понедельник — опять придется идти на работу, облачаться в костюм, совать голову в галстучную петлю, делать умное лицо… Саймон держал на коленях аудиторский отчет, до которого с пятницы никак не доходили руки. Цифры сливались у него перед глазами. Он никак не мог сосредоточиться на отчетах о продажах, надоевшие за неделю таблицы раздражали. Надо было заняться этим еще в прошлые выходные. Но тогда в доме было полно народа. Шум, гам, суета… Вместо того чтобы наконец разделаться с цифрами, доделать расчеты с прибылью за прошлый квартал, он занялся вычислениями, не имеющими никакого отношения к делу. Оказалось, что с пятницы прошел пятьдесят один час. Неужели нельзя было выкроить время, чтобы прочитать все документы? Но когда он вернулся из Лондона в пятницу вечером, сразу пришлось ехать в Блетчли встречать детей. Потом — ужин, приправленный скопившимися новостями. На следующий день прикатила Белинда со своим Жюлем. Тот еще типчик! Саймон, хоть и был слегка простужен, раскрыл в гостиной все окна, чтобы хоть немного выветрилась одуряющая смесь крепкого табака и совершенно возмутительного одеколона, от которой першило в горле и постоянно хотелось чихать. А эти сороки? Они же не умолкали ни на минуту! Белинду словно прорвало — она безостановочно трещала про Оукеры и вспоминала общих знакомых. Скукотища зубодробительная. В воскресенье он возился в саду. Потом приперся чертов братец с тещей. Совсем сдала Мадж в последнее время. Разве что рассказчицей осталась превосходной. Если, конечно, не теряла мысль, как это с ней все чаще случалось, и не начинала заговариваться. Похоже, Бартлу воспоминания о викторианских временах тоже нравились больше, чем болтовня Ричелдис и Белинды. Как ни странно, прервать ее удавалось только Мадж.
Эмма с Томасом непристойно хихикали, когда бабушка начинала повторять все по десятому разу. Саймону подумалось, что надо бы уделять им побольше времени. Они совершенно не приспособлены к жизни, варятся в собственном соку, с ровесниками общаться не умеют, совершенно дикие, как зверьки какие-то. Спросишь их, как дела в школе, — натыкаешься либо на глупый смех, либо на гробовое молчание. В такие минуты ему казалось, что это не его дети, что у него не могли родиться такие волчата, но после приходило раскаяние и самоедство.
Итак, в шесть вечера он поехал встречать их после школы на станцию. Поцеловав Эмму и Томаса в макушки, он вдруг испытал ощущение не встречи, но разлуки. Разве он мог допустить, чтобы дети, вернувшись после недельного отсутствия, обнаружили, что у них больше нет отца? Что угодно, только не это!.. Видимо, ожидание разлуки и было причиной гнетущего уныния, охватившего его сейчас, когда все были дома. Он сидел в полутемной гостиной с аудиторским отчетом и стаканом виски. Барток бодрости не прибавлял. Школа! Сколько лет минуло с тех пор, как Саймона самого точно так же провожали, но при воспоминаниях об этом его каждый раз передергивало. Ему стало горько. Он почувствовал себя брошенным, как тогда, когда начинал с вечера воскресенья готовиться к школе, как тогда, когда прощался возле школьных ворот с родителями и потом вприпрыжку бежал открывать массивные двери, чтобы не опоздать к утренней молитве. Почему именно сегодня он почувствовал это так остро?
Его мысли прервал звон бьющегося стекла. Маркус? Малыш проснулся ни свет ни заря и решил, что сейчас самое время поиграть. Пришлось вставать. Сумасшедший дом! Ребенок перевозбудился, начал ко всем приставать, старшие его гоняли, все по очереди лезли в разговоры взрослых, носились как угорелые, Маркус от полноты чувств постоянно писался. Саймон из последних сил держал себя в руках. Потом Ричелдис попросила помочь ей в саду. Подоспевший Бартл взял Маркуса с собой в церковь. Когда же угомонится этот несносный мальчишка?
Он выскочил из гостиной и завопил:
— Что случилось?!
— Все в порядке, не беспокойся, — раздался сверху голос жены.
Тоже мне ответ! Он взбежал по лестнице. Хорошенькое «ничего»… Эти звуки мертвого могли разбудить!
Ричелдис стояла в спальне и гладила рубашки. Он никогда не понимал, почему этим надо заниматься именно в спальне, если существовала специальная комната. (К тому же непонятно, зачем она вообще их гладит, для этого существует миссис Тербот, которой они платят, и, между прочим, очень прилично.) Вовсю надрывалось радио.
— У тебя очень громко играет музыка, — сказала Ричелдис. — Элгар[33] или кто там…
— Что, черт возьми, были за звуки?
И тут он увидел. Акварель с видом Венеции, купленная его родителями, после того как они поженились, валялась на полу. Стеклянная рамка разлетелась на множество мельчайших осколков. Никакой художественной ценности она не представляла, да и Ричелдис ее никогда не любила. А для Саймона это была ниточка, связывающая его с прошлым. А она стоит и продолжает гладить. А кто это должен убирать? Утюг со злобным шипением сновал по доске. Неужели нельзя потише? Ему казалось, что раскаленный металл обжигает его кожу.
— Мне показалось, что с Маркусом что-то случилось.
— Странно, что ты вообще о нем вспомнил.
— Что?!
— Ничего. — Она попыталась стереть с лица саркастическое выражение.
— Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказала.
— Я не хотела тебя обидеть.
— Странно, но ты делаешь то, чего делать не собиралась. Я все выходные провозился с сыном, пока ты трещала с этой идиоткой.
— Не смей так говорить о Белинде!
— Почему? Она такая и есть.
— Ну хватит. — Ричелдис не хотела ссоры. — Это же глупо.
— И кто все должен убирать? — Он кивнул на то, что недавно было его любимой акварелью.
— Не видишь, я глажу. Твои же, между прочим, рубашки на утро.
— Если ты будешь и дальше так бухать утюгом, то я не удивлюсь, если рухнет что-нибудь еще.
— Саймон, милый…
— Довольна, да? Ты никогда ее не любила. Отец подарил ее маме во время их медового месяца.
— Ну хорошо, извини. Ты не будешь любезен собрать осколки?
— Ты разбила — ты и собирай. По-моему, это справедливо.
— Я ничего не разбивала. Как тебе не стыдно так говорить? — В ее голосе задрожали слезы, она отбросила не доглаженную рубашку. — Я тут стараюсь, выбиваюсь из сил после этих изматывающих выходных, глажу твои рубашки, будь они неладны, а ты говоришь всякие гадости.