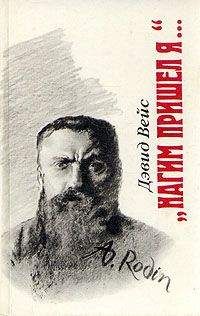Димка шел на Шимкинский рынок, купить чего-нибудь к новогоднему столу, и задыхался от восторга, глядя на это снежное великолепие. С радостной завистью думал о том, какой богатый будет урожай. Рынок уже опустел. На лотках сугробы, ветер сдувает снежное крошево, кружит рваные картонки и целлофаны.
— Хурма! Хурма! — слышалось в дальнем углу.
Димка радостно пошел на этот зов и замер. По метельным, пустым рядам бегал азербайджанец. Без шапки, грудь нараспашку, черно-выпуклые глаза и яркие белки.
— Хурма! Хурма! — кричал он. — Мороз! Снег! Снег!
Дима растерялся.
— Хурма! Снег! — кричал мужчина, скидывая сугробы с лотков. — Хурма! Мороз! Мороз!
С невыносимым укором глянул он на Димку, затем сморкнулся, как нормальный человек, сел на корточки и ладонями ударил себя по голове. Со стороны северного выхода появилась озабоченная группа торговцев, за ними настороженно двигался милицейский автомобиль.
Коля, желая напиться, уговорил Димку отметить все вместе: развод, продажу коммуналки, Новый год и всеобщее расставание.
За окнами усталость и тишина, точно все замерли в ожидании неизбежных и неотвратимых перемен. Тихо и пустынно в коммуналке. Струятся тени снежинок по стенам.
— е мае, Митяй! — говорил Коля. — Это кризис среднего возраста у тебя.
— А у тебя?
— Я — конченый человек! Прервется на мне наш род.
— Коля, бесит меня апатия твоя, обреченность эта!
— А меня твой бред, бэ-э! — он по своей пьяной манере громко забрюзжал губами. — Митяй, ты мудак! Ты что, целину собрался поднимать?! Основная часть России — зона рискованного земледелия, к твоему сведению. А случись недород-неурожай, сука-трейдер продинамил.
— О-о, специалист! — иронично усмехнулся Димка.
— Не знаю, вид, что ли, у меня такой — все за идиота держат? Настоящий деревенский уклад был убит в 1917-м, — он кашлял, задыхался, но продолжал: — Сволочь, которая крутит всей этой международной интеграцией, прекрасно знает, что, если сдохнет деревня в России, — туда ей и дорога! — он уже сипел и пищал.
— Ладно, забей, Коль.
— Сам забей! Поехали в Гоа. Ты был в Гоа, чувак?
Димка помотал головой.
— И-эх, колхозник, е мае! Жалко мне тебя, — будто боясь снова закашляться, он резко выпил. — Мы сидим на продовольственной игле.
— А ты рад этому, Коль?
— Нет, праздник просто.
— Понятно.
— Ничего тебе не понятно! Всю еду и биомассу вырастят в Китае или Аргентине. И за недорого вырастят, заметь. Так что извини, я против героизма отдельных лиц, а также посадки и разведения нового вида — лох деревенский обыкновенный, бэ-э, — презрительно пробрюзжал губами.
— Да не собираюсь я там ничего разводить.
— Собираешься.
— Митяй, страну тупо загоняют в эсэсэсэр, только вместо партийных бонз теперь олигархи, а ты им подыгрываешь.
На улице затрещали салюты, заверещали сигнализации машин и закричали люди, видимо, наступил Новый год.
— Дело не в этом, Коль. Я просто понял, что у меня есть земля. Есть столб атмосферного воздуха над ней и космос. И на этой земле я имею полномочия жить, быть полноправным и свободным. То есть понял, что до этого, и вообще, я был никакой человек и вполне допускал, что со мной можно делать все что угодно — обманывать, использовать, повелевать и богатеть за мой счет.
— Пей, — сказал Коля. — Я уже свою выпил.
— С Новым годом, с новым счастьем.
— Надеюсь… На похороны приедешь? Приглашаю, заранее.
— Коль, ну давай заплачем еще, а?
— У меня это быстро, сердце слабое…
Трещали петарды, жужжали и пищали китайские салюты, отсветы выхватывали и переставляли вещи в полутемной комнате.
Переходное земледелие
Это, видимо, начало старости — Димка приехал на вокзал за полтора часа до отхода поезда, словно боялся не успеть. Он был одет в крепкую и удобную одежду полувоенного образца. На плечах рюкзак, продуманно распределяющий груз по всему корпусу, и большая сумка у ног. Через полчаса появился Колька — худая, высокая и нескладная фигура и тоже рюкзак с сумкой. Коля был из тех, кто любит косухи, кожаные брюки и с юных пор подражает то ли горцу Дункану Мак Лауду, то ли латинским гангстерам с косичками из пошлых голливудских лент.
Для дальней дороги в холодные края он, конечно, был очень легко и непрактично одет, особенно эта обувь “казаки”, но Димка промолчал. “Дима, я слышала вы уезжаете? Заберите его с собой развеяться, — просил испуганный голос Колиной мамы. — Он махнул на себя рукой. Весь в компьютере, не дышит свежим воздухом. И не женился… А вас он все же слушается. Он любит технику и железяки с детства. Я буду вам денег с пенсии высылать”.
Они взяли картонный кофе и сели на оранжевые стулья. Уныло прихлебывали. Димка, который настаивал на этой поездке, упрашивал и умолял, теперь неловко чувствовал себя. Ему казалось, что он обманул этого человека, пообещал невозможное. Колька раздражал его своим дурацким, антидеревенским видом.
Вдалеке заиграла гармошка, и кто-то запел тонко:
Туманы, туманы верните мне маму.
Верните мне маму, прошу об одном.
— Даже не верится, что ты тоже едешь, — усмехнулся Димка.
— Ну, дык, — смутился он. — Что мне, на руках у матери помирать?
— А что же Гоа?
— А-а, выпить не с кем — одни наркоманы или буддисты мозги парят, — Колька замолчал, прислушиваясь к песне.
Туманы немые по полю гуляют,
И словно не слышат сиротки слова.
— Ну и как?
— Мудрено.
— Ясно.
— Надо сказать, Митяй, что я раньше трясся от радости, когда за границу ехал. Смаковал отлет в Шереметьево, как бы длил начало путешествия в загранку. И все отлетающие так волнуются от радости — пьют, курят, громко шутят. А теперь не хочу, лень. В твою дыру даже интереснее…
В начале рядов пел и сам себе подыгрывал мальчик:
Ах, мама родная, услышь дорогая!
Услышь, как рыдает дочурка твоя.
Он медленно, с развязной отрешенностью обходил и переступал вытянутые ноги, баулы, узлы:
Мне было три года, когда умерла ты.
С тех пор на могилу ношу я цветы.
Колька трясся, будто сдерживая смех. Димка посмотрел на него и растерялся, сконфуженно замер.
— Отец эту песню любил, — Коля плакал и прятал глаза. — Пел по пьянке.
Мальчик приближался.
— Я не могу, не могу, Митяй! — Колька трясся, как в припадке. — Он душу мне рвет на куски… Ну его к черту! Дай ему, — он сдавленно пищал и протягивал сто долларов.
Туманы немые надо мной проплывают.
А я у могилы стою все одна.
Димка украдкой протянул ему свернутую купюру. Мальчик резко оборвал песню, закинул гармошку за спину и развернул деньги.
— Такие в киоске за три рубля продаются, — презрительно сказал он.
— Я отвечаю! — обиженно просипел Коля. — Бери, не светись.
Мальчик посмотрел на его заплаканное лицо и, цинично ухмыльнувшись, растворил купюру в недрах своей одежонки:
Туманы немые над могилой проплыли.
Счастливого пути, пацаны…
А я у могилы стою все одна.
Димка курил на перроне, Коля стоял рядом.
— А ведь может так статься, что ты сюда, Димон, уже никогда не вернешься, — он смотрел на него с печальной дружеской влюбленностью.
Димка глянул на безликую толпу, на киоски, на носильщиков таджиков и почувствовал радость освобождения.
— Хорошо, что я с тобой, дураком еду.
— Это точно, Коль!
Проводница в синем форменном пальто заталкивала их в тамбур, но Колька, услышав какие-то крики, выглянул из-за ее плеча, лицо его резко раздулось и налилось кровью. Он хотел крикнуть что-то, но только закашлялся.
— Эй! Эй! — сдавленно сипел он.
Состав с резиновой мягкостью вздрогнул, проверил сцепки.
— Все, я закрываю! — злилась проводница. — Никак не расстанутся!
— Там же ребенка бьют! — вскрикнул Коля.
Димка протиснулся к двери. По перрону, усердно склонив голову и мельтеша острыми локтями, бежал тот мальчик. За ним несколько подростков.
— А ну брось нож! — вдруг заорал Коля, глянул на Димку с отчаянием и спрыгнул на перрон.
— Пассажир! — гаркнула проводница.
Колька схватил мальчика в охапку и рванул назад.
— Охренели совсем, поезд остановят!
— Прекратите истерику! — процедил Димка.
— Спасибо! — ответила она. — Я вас тоже очень люблю!
Самое странное, что подростки не остановились и уже почти нагоняли Кольку. Димка тоже заметил нож у вырвавшегося вперед парня.
— Порежут, козлы! — Димка тянул-тянул руку и, ухватив рукав косухи, что было сил рванул на себя — Колька, высоко закидывая ноги, ввалился в тамбур уже почти на самом краю перрона, и упал вместе с мальчиком на Димку, растопырившего руки и ноги.
У Кольки посинело лицо.
— Подыхаю, что ли, е мае?! — хрипел он.
— Отпусти, е мае! — дергался мальчик.
— Ну и че теперь с вами делать? — начала соображать и раздражаться проводница. — Че они за тобой гнались?
— Они деньги отобрать хотели, тетенька! — губы мальчика растянулись и задрожали. — Этот е мае мне сто баксов дал.