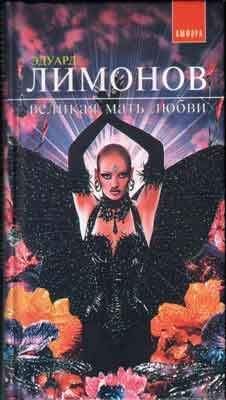Старики закивали головами.
— У нас тут в квартире, Эдь, девять детей однажды жило. У дяди Сережи с тетей Леной, — она повернулась в сторону бабки с дедом, — четверо, я с Толиком и тимофеевских — они в твоей комнате жили — трое детей. Мы все дружили, играли, романы даже те, кто постарше, заводили, а он — все особняком, братан мой. Характер у него такой. С одинокой душой уродился. Ему бы за Ольгу держаться, что-то она в нем нашла, раз два с лишним года вместе прожили, а он… Эх, что ж теперь говорить. Поздно уже… Все поздно…
Первые дни, наблюдая соседа, юноша подумал, что доктора ошиблись в диагнозе. Что слесарь будет жить. Да, Толик похудел, но разве человек после операции желудка полнеет? Его рвало меньше, чем до операции, и он, несомненно, сделался более энергичен. Лишенный привычных восьми часов заводского общества, слесарь теперь обязательно выползал во второй половине дня на кухню, усаживался на стул в своем углу и или задирал деда и бабку, наблюдая, как они готовят очередную порцию всегда вонючей пищи, или же выносил маленький радиоприемник и вертел его ручки, налегши всем телом на стол. «Радиво», как он его называл. Треск и помехи радиоэфира наполняли квартиру. Но даже у бабки не хватало наглости лишить приговоренного к смерти вдруг проявившейся неожиданно прихоти. В обычно суровом и независимом, одной своей сутуловатой осанкой как бы осуждавшем погрязших в коррупции деда и бабку, в Толике стал проявляться вдруг социальный юмор. «Коммунисты пивного ларька, еби иху мать, — смеясь обращался он к юноше. — Всю жизнь умели пристроиться к власти. Крестьяне, от сохи, а прожили аж за семьдесят, как у Христа за пазухой».
Поэт хотел было возразить, что дедовские кальсоны и тесная комнатка на Погодинской далеко не свидетельствуют о том, что дед и бабка сделали блестящие карьеры, скорее напротив. Но верный своей привычке не вносить в простые отношения квартиры идеи другого, большого мира, в котором он жил и был в нем «не из последних удальцов», он ограничился понятным слесарю замечанием:
— Чего добились-то, квартиры даже отдельной нет.
— А что они такое специальное делать умеют, Эдь, чтоб им квартиру? Дед всю жизнь бригадиром электриков был. Ты думаешь, он в электричестве чего понимает? Пробки починить дурак может. Да ты больше об электричестве знаешь, чем он. Однако бригадир, пенсия большая. А все потому, что одним из первых записался деревенский Серега в партию. Вот его партия и толкала всю жизнь, как паровоз вагоны толкает. — Слесарь явно разделял себя и свою городскую пролетарскую семью и деревенских деда и бабку. И в последние недели жизни его интересовал все тот же местный микромир, в котором он прожил сорок четыре года, а не общение с Богом, мысли о мироздании или волнения по поводу загробного мира.
В начале ноября он перестал выходить на кухню. Он еще выбирался в туалет, но в конце концов (после каждого принятия пищи его теперь рвало немедленно) Светлана привезла от себя эмалированное ведро с крышкой, и ведро поставили рядом с кроватью. Истощенный и слабый, Толик лежал на кровати в брюках и шерстяных носках и глядел в противоположную стену. На стене висела серая фотография его семьи. Отец при галстуке лопатой и с гладко прилизанными назад волосами, мать, стриженная скобкой, большеносая. Светлана лет десяти, с жиденькой косой и волевым выражением лица, положила руку на плечо матери, как бы оберегая ее. Миниатюрный еще Толик чуть в стороне, отделенный от слепившегося семейства фотощелью, безучастно глядит в объектив. Уже из чрева матери слесарь вышел грустным, суровым и не знающим, что ему делать на этой земле, незаинтересованным, неприкаянным.
Дверь в его комнату теперь всегда была приоткрыта. Об этом просила Светлана, и сам Толик предпочитал, чтобы дверь была приоткрыта.
— Эдь! — слабым голосом звал он соседа. — Ты не торопишься? Зайди ко мне, посиди.
Юноша вступал в комнату смерти и садился на старый табурет у кровати.
— Ну как? — хрипел Толик, — страшный я стал, да? — Лишенное притока пищи тело становилось все более похожим на саму Смерть с дюреровских рисунков, в особенности лицо.
— Ну, болезнь-то не красит, — уклончиво отвечал юноша, пытаясь скрыть страх, который ему внушало лицо умирающего.
— Что ж Коган-то говорил — поболит. И заживеть. Не заживаеть, а, Эдь…
— Операция очень сложная была, потому такие и боли…
— А не умру я, Эдь?.. Ведь желудок даже соки эти блядские не принимаеть…
— Да что вы, Толь! Живы будете. Потерпите…
Почему-то ко всем глаголам, оканчивающимся на твердые согласные, больной стал добавлять мягкий знак. Может быть, от слабости? Речь его стала похожа на монологи рабочих из старых кинофильмов о дореволюционной жизни. Объяснить себе этот феномен юноша не смог. Возможно, так вот, с мягкими знаками, говорили в свое время родители Анатолия, и теперь, стоя у порога того света, он в полусознании заговорил на диалекте первых лет своей жизни?
Любовники обычно совокуплялись на Погодинской, днем, включив транзистор, на узкой его кровати без спинок, матрас положен был на деревянный постамент. Начинали они с распития одной или двух бутылок «Советского Шампанского», купленного в маленьком магазинчике на Погодинской. Однажды поэт, явившись в магазинчик, не смог купить шампанского. «Ты все и выпил, — серьезно сказала продавщица. — Местные пьют водку и портвейн». Часто Елена приходила с собакой. Витечка с удовольствием рассказывал друзьям о долгих, многочасовых прогулках, которые совершает Елена с собачкой Двосей. Двося обычно лежала на полу комнаты и, глядя на счастливо совокупляющихся молодых людей, завистливо повизгивала.
С болезнью соседа им пришлось перейти на вынужденную сексуальную диету. Однако молодость бродила в их крови, и, посмущавшись, Елена опять стала являться в комнату к поэту. К транзистору и шампанскому и стонам влюбленной пары стали примешиваться аккомпанементом стоны и хрипы блюющего в эмалированное ведро Толика.
— Что это? — Елена внезапно вышла из любовного забвения, в котором они плавали оба, вцепившись друг в друга и переплетясь всем, чем только возможно было переплестись. Она прислушалась. За стеной нечеловечески глубоко и пронзительно хрипел, вздрагивая разлагающимся желудком, сосед.
— Желудок совсем уже пищи не держит. Умирает слесарь, — прошептал поэт.
— Он умирает, а мы тут… — Елена вдруг заплакала обильно и густо, крупными слезами.
— Каждому свое, — сказал мудрый поэт со спокойствием человека, уже второй месяц живущего рядом с умирающим. — Мы любим друг друга, а он умирает… Так надо.
— Где стоит его кровать? — прошептала Елена. Кровать слесаря находилась в каких-нибудь 20–30 сантиметрах от их ложа. По другую сторону стены.
Девочка двадцати двух лет, чужемужняя жена с волосами цвета темного меда стала ему еще дороже и желаннее, ибо он слышал стоны мужчины, насильственно отдираемого от жизни смертью. Он выдвинул из нее член и поглядел на него. Красно-синий, набухший горячим тюльпаном член его был наполнен жизнью.
Он с удовольствием принял приглашение Елены и Витечки приехать к ним на дачу. Кроме возможностей щекочущих совокуплений с Еленой в близком соседстве от Витечки, где-нибудь на чердаке или в саду, приглашение давало ему возможность на несколько дней избегнуть все более зловещей атмосферы квартиры на Погодинской. Толик перестал спать. Два раза в день появлялась в квартире молоденькая медсестра и колола его в кожу и кости. «Чтоб не мучился, — объяснила бабка. И вздохнула. — Очень облегчает. Морфей». Он понял, что это морфий.
Собравши сумку, он зашел к соседу. Медсестра только что ушла, и Толик лежал, успокоившись на пару часов, прикрыв глаза.
— Вы спите, Толь?
— Какой там… Так, отпустило чуть-чуть после укола. Скоро опять схватить. Передыхаю.
— А я в деревню валю на несколько дней. Работа есть. Церковь подмалевать приятелю помочь.
— Врешь ты все, — лицо Смерти изобразило что-то вроде улыбки. Череп заулыбался. — Кобелить отправляешься…
Он не возразил.
— Правильно делаешь. Гуляй вовсю… Я вот… — череп остановился и задумался. Из-под желтых, тонких, как лист бумаги, век, выкатились слезы. — Я вот все робкий был. Баб боялся… А теперь что? — Он поглядел на юношу. И ответил сам, медленно открывая рот: — Все теперь… Назад машинку не перекрутишь.
Поэт встал.
— Пойду. Ждут меня… Держитесь тут без меня… Толь… — сказал он и засмеялся. Он хотел сказать: не помрите тут до моего возвращения, но, естественно, не мог этого сказать и проглотил окончание речи. Уже схоронивший к тому времени нескольких друзей, он не был сентиментален, скорее, даже жесток, но… Одно дело, когда умер Юло Соостэр… Он оставил после себя детей, картины… А слесарь, ему, должно быть, очень страшно идти в ледяной мир из этого ледяного мира, где он был посторонним и чужим, только соседом. Ни детей, ни картин… Страшно, наверное.