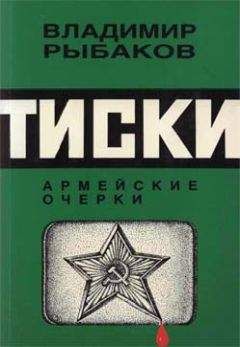Нужно было послать его защищать Родину, чтобы он стал вором. И он им стал, как стали тысячи, сотни тысяч других парней. Он украл книгу в тумбочке товарища или же, уйдя в самоволку, стащил ее в сельской библиотеке. Не привыкший к воровству, парень от злости на кого-то ударил кулаком по своей собственной тумбочке. Она, равнодушная, ответила ему спокойным гулом.
Солдату, как и всякому человеку, нужна собственность, что-то, принадлежащее только ему одному, и собственность ему нужна, скрытая от чужих глаз и рук. Собственность как-то связана с чувством собственного достоинства. Лишить человека возможности защищать свою собственность — жестокое оскорбление. Испытал его и я.
Во второй роте нашего полка был один несчастный сержант. Все его одногодки уже демобилизовались, а он все бродил неприкаянный по части. Кроме всего прочего, из его тумбочки постоянно пропадал одеколон. Сержант знал, что в казарме есть десять-одиннадцать одеколоночных алкоголиков, но никак не мог поймать вора на месте преступления. Он открыто радовался, когда эфирные масла, заключенные в одеколоне, сделали одного слепым. «Лез в мою тумбочку, — зло говорил он, — лакал мой одеколон, воровал, сволочь, мое добро. Поделом».
Бог знает, что с ним было до армии. Может, он, к примеру, у себя в селе вкалывал, как владимирский тяжеловоз. После работы в совхозе шел еще работать на свой участок. Хотел купить матери пальто, себе — «ИЖ». И за пот его государство вознаградило тем, что разрушило его село, а население перевело жить в поселок городского типа. И потерял парень свои участок, мечту о пальто, о мотоцикле, мечту о всем том, что могло дать то, что он считал своей собственностью. Он, быть может, протестовал, а скорее всего молчал. И запомнил оскорбление.
Как-то один молодой солдат потерял иголку с ниткой, и, страшно перепугавшись, что на вечерней проверке это обнаружится, бросился к первой же тумбочке и стал в ней рыться, надеясь найти там иголку. Солдат не хотел быть наказанным. Как на зло, это была тумбочка сержанта. Сержант увидел, наконец, вора. Он повалил солдата и стал бить его все той же равнодушной тумбочкой.
Человеку нужно, чтобы принадлежащее ему ему действительно принадлежало.
Вдова лейтенанта Бондарева Наташа вызывала к себе уважение со стороны личного состава нашего военного городка. Муж ее прошлой зимой (ему было лет двадцать пять) напился в селе и, возвращаясь в часть, забрел в сугроб, где и уснул навечно. Наташу уважали за то, что, как говорили наши деды, блюла себя без лицемерия, была добра и проста. Есть у нас еще такие женщины.
Среди солдат считалось нормальным в краткие часы свободы добраться до женского тела, не помышляя о чувствах, доброте и других сложностях. Не люби, ибо не любим — и точка. А тут рядовой из третьей роты Владислав Репейников стал вести себя как-то странно. Он стал встречаться с Наташей, офицерской вдовой, прямо на территории части. Как он, хмельной не от водки, а от чувства, ввалился в казарму и заявил: «Ребята, я влюбился, я люблю ее».
Казарма застыла. Что-то произошло. То ли в голосе и облике Репейникова было много неподдельного счастья, то ли чувство Наташи очищало Владислава от скверны подозрении, но никто не рассмеялся, не свистнул, не пошутил грязно и пошло. Репейникова стали поздравлять, словно он получил отпуск, поздравлять с радостью.
Через несколько дней три офицера из нашей части сказали Репейникову без свидетелей: «Слушай, колхозник, слушай и запоминай. Эта баба не по твоим зубам, она наша и для нас, не для твоих грязных рук. Еще раз увидим тебя с ней — сгноим, очутишься в дисбате или на том свете. Понял? Теперь, вонь, проваливай».
Еще через несколько дней дисциплина во всем военном городке рухнула. Солдаты отказывались выполнять приказы, пререкались, кричали, что не будут больше терпеть. Наказания не действовали. Начальство уже знало, в чем дело. Командир полка, старый офицер, понял, что идти против течения было бы глупо — дело стало общим, солдатским. Три офицера были наказаны, прошел слух, что их вскоре переведут в другую часть. Владислав и Наташа поженились.
Любовь не может быть уродливой, ее могут стараться искорежить, мы сами можем поверить, что ее нет, не было никогда. Поверить, чтобы потом когда-нибудь понять, что это сила, перед которой бессильна самая сильная власть.
Стоит солдат на посту, декабрьский ветер прет мороз сквозь караульную шубу, шинель, телогрейку. Тело коченеет, теряет гибкость. Так холодно, что нельзя уже мечтать о теплом солнце. Скрючившаяся фантазия способна изобразить только чумазый котелок, в котором булькает вода, варится будущий чай.
Солдат вдруг вспомнил, что завтра 5 декабря, День конституции. Хоть и праздник не Бог весть какой, но все-таки возможность повеселиться. И тут вдруг вопрос: а дадут ли выходной? Можно ли будет днем спокойно пойти в кочегарку, найти там самое горячее место и прогреть кости в тишине? Солдат постарался вспомнить, забыв о холоде, автомате, китайцах, был ли в прошлом году выходной 5 декабря. Вспомнил — не было! И выругавшись, сказал: «Тревогу тогда, гады, объявили, гоняли целый день между тревогой и отбоем! И выпить не дали, сволочи!»
Оторвавшись от нехороших мыслей и бросив взгляд на часы, часовой обрадовался: время в раздумье шло быстро. Скоро смена, скоро тепло караульного помещения. Завтра будет праздник. А сегодня есть и еще будет до утра надежда, что дадут, раз в прошлом году не дали, выходной. Может даже, повара по приказу котлеты отгрохают, может даже, у этих котлет будет вкус мяса… Этих «может» и «даже» стало вдруг много-много, и все они были соблазнительные. Кроме того, спрятанная в листках военного билета, терпеливо ждала своего часа пятирублевка. И если завтра будет выходной и если к пятерке прибавить восемьдесят копеек и если к тому же вырваться в деревню на полчаса в самовольную отлучку, то можно будет купить бутылку питьевого спирта.
Возвратившись после окончания караула в казарму и растворившись в строю, солдат почувствовал в себе что-то недодуманное, невысказанное. И как бы очнулся. Кругом говорили о завтрашнем дне, о Дне конституции, но не о ней самой. Парень попытался себе ее представить, попытался сказать о ней друзьям. Слова как-то не шли. У большинства ребят был аттестат зрелости, они любили книги. Кто любил Блока, кто — Есенина, некоторые увлекались Евтушенко. По всей казарме месяца три гуляла книга Юрия Казакова. Каждый повторял другим, что красть ее нельзя. Но вот о конституции никто толком не мог рассказать. Конституция представлялась неким законом, то есть еще одной обязанностью. Один паренек, стаскивая с плеча надоевший за сутки караула автомат, сказал, как бы закругляя разговор о конституции: «А мне она до лампочки!»
На следующий день, 5 декабря, комполка объявил на построении выходной день. После завтрака всех погнали в Дом офицеров. Шли весело — мечта сбылась. Конституция так конституция, лишь бы дали возможность выпить, да и в Доме офицеров зимой всегда тепло. Сидишь в откидном кресле, со всех сторон плывет и плывет на тебя, пусть пахнущие человеческими телами, но разогретый воздух Овладевает истома, веки накатываются на глаза.
Сначала на трибуну вышел замполит полка и начал доклад о конституции. Замполита заменил парторг полка. Он повторял, пережевывал слова замполита. Подольше бы говорил, на дворе колотун-мороз. Ко всеобщему облегчению парторг говорил и говорил. Он продолжал перечислять наши права. Тут сидевший рядом со мной рыжий насмешливый новосибирец сказал: «У нас в полку есть еврей, которого не приняли в университет, потому что он еврей, и есть куча нашего брата, кацапья, которую не взяли в институты и университеты только потому, что они сдавали экзамены где-то в республиках, где, как известно, принимают прежде всего местные кадры. Им просто объявили, что они не прошли по конкурсу. Ха-ха. Надеюсь, что они слышат слова о нашей любимой конституции. Жарко им, небось, стало от душевного волнения».
Новосибирец закончил свой монолог несколькими крепкими словами, которые не берусь повторять.
От слов соседа-товарища я вышел из дремоты, оглянулся и спросил: «Ты что, по дисбату соскучился? До дембеля не хочешь, что ли, дожить?» Тот мне ответил глупо, но благородно: «Я знаю, что ты на меня не донесешь».
Парторг, как отличник, повторял выученное наизусть: «Свобода слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, свобода совести, а также объединения в различные общественные организации…»
Согласно иерархии, после парторга на сцену взобрался комсорг. Этот стал говорить о почетной обязанности граждан СССР — о воинской службе в рядах Советской армии.
Новосибирец, теряя свою насмешливость, буквально захрипел: «Свобода совести, свобода слова смеет, сволочь, о них говорить! Да я…» Тут моя рука сжала его плечо, сжала изо всех сил. Он замолчал. Он не хотел ни тепла, ни котлет, ни водки. Он хотел свободы.