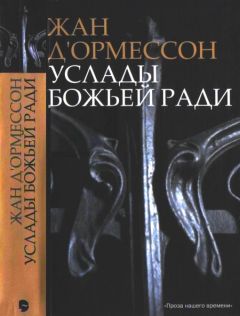Карл Маркс был немцем, что не имело значения, но он был также еще и евреем и социалистом, а это никак не красило его в глазах моего дедушки. Однако у Маркса и у марксистов было нечто такое, что могло бы если не привлечь к себе, то хотя бы капельку заинтересовать моего деда, если бы он не решил раз и навсегда отрицать полностью все, что связано с социалистической революцией. Это нечто представляло собой смесь антипатии к деньгам и к промышленному капитализму с неприятием буржуазии, с решительным презрением к свободе личности, с подчинением ее стоящему над индивидуумом коллективу с чувством необходимости и с уважением к истории. В отличие от Макиавелли, игравшего со своим принцем в мелочные игры, Карл Маркс и мой дед были оба, хотя и по-разному, но доверенными лицами Провидения. Для обоих история была призванием, хотя, правда, Карл Маркс видел ее в движении, а дед — неподвижной, застывшей. Просто дедушка ставил моральную силу выше экономических законов. Думаю, что в этом он был прав. Но он выбрал не ту мораль. Потому что искал ее в прошлом.
Целый мир умещался между улицей Варенн и Плесси-ле-Водрёем. Моему деду во время Первой мировой войны исполнилось шестьдесят лет, и он уже почти не покидал своего замка. А когда он приезжал в Париж, то останавливался в своей просторной квартире рядом с бульваром Осман. Время от времени он появлялся на улице Варенн — пообедать или поужинать. Тогда тетушка Габриэль выгоняла своих скульпторов и музыкантов, запихивала Пруста в платяной шкаф, отсылала Кокто в кабаре «Бык на крыше», отправляла Радиге на несколько дней за город или к Бомонам. И дедушка видел на улице Варенн лишь кузин из провинции, весьма и весьма почтенных дам. Происходило чудесное превращение: прошлое возвращалось во всей своей мощи, прогнав прочь авангард, парижскую элегантность, новинки сезона, пенящуюся и слегка подозрительную смесь таланта и остроумия. Разговоры снова шли об охоте, о традициях, о генеалогии, немного об истории, немного о морали. О правительстве говорили лишь плохое, но в плоских и приличных выражениях. Звучали сожаления о нынешних нравах, именно о тех, которые культивировала, как могла, тетя Габриэль, когда в доме не было деда. Собеседники предавались воспоминаниям. Противопоставляли блеск былого гнусной современности. Как был бы счастлив Пруст! Может, он и появлялся там за полночь, такой, каким запечатлел его Поль Моран, со своим пробором посередине и в меховом пальто в разгар лета, преисполненный выдающей юных еврейских гениев нагловатой смиренности. Похоже, что нет. Дедушка ничего о нем не знал. Он ничего не знал о современной музыке, о живописи, о бунтах, о чувственных танцах, о наркотиках, не знал ни о чем из того, что опьяняет людей и приводит в движение мир. Не знал он и литературы. Уезжая в Плесси-ле-Водрёй, он был уверен, что на улице Варенн продолжается семейная жизнь и что на роскошные обеды тетушки Габриэль, навсегда вписавшиеся в историю искусства, историю моды, историю болезни века, вписавшиеся в эстетическую и гомосексуальную революцию, собирались те же самые растворившиеся в небытии тени, что и на посиделки вокруг каменного стола.
Летом дядя Поль, тетя Габриэль, четверо их детей и несколько слуг уезжали на три-четыре месяца в Плесси-ле-Водрёй. И вновь время останавливалось. В годы между двумя войнами и за семь-восемь лет до первой катастрофы, до Первой мировой войны, у каждой зимы, осени и весны была своя окраска, свои необычные события, открытия и скандалы. Это были годы «Весны священной» Стравинского или «Парада» Эрика Сати, или Русских балетов, или «Какодилатного глаза», или «Грудей Тирезия», или присвоения Прусту Гонкуровской премии, или год, когда Коко Шанель сказала «нет» какому-нибудь английскому герцогу или какому-нибудь русскому великому князю, год Эпинара и его легендарных побед. А вот все летние месяцы, напротив, были похожи друг на друга. В моей памяти они сливаются в один долгий летний день, бесконечный и неподвижный, придавленный горячим солнцем, наполненный непрестанным жужжанием насекомых, день, едва заметно прерывавшийся в течение долгих четырех лет внезапными силуэтами такси с Марны и грохотом пушек в Вердене, да еще появлением вокруг каменного стола пятерых-шестерых новых покойников в серо-голубых шинелях с военными фуражками на голове. На протяжении двадцати или тридцати лет тетя Габриэль в летние месяцы усаживалась в будочке из ивовых прутьев, представлявшей собой нечто среднее между креслом и шалашом, пустой после кончины бабушки, и медленно отдавалась старению. Зимой она рассеянно рассказывала Марселю Прусту об этом шалаше, следы чего вы можете обнаружить в его «Поисках утраченного времени». По мере того как текли годы, красавица Габи все больше походила на бабушку, чей образ постепенно стирался у меня из памяти. Быть может, появление в нашей семье прекрасной Габриэль укоротило жизнь бабушки. Ну а затем Провидение, подсознание, совокупность случайностей, ирония вещей, течение времени отомстили, как и подобает, и виновница стала играть роль своей жертвы. В Париже Габриэль подталкивала семью в неведомое будущее. В Плесси-ле-Водрёе она возвращала нас в прошлое. Мало сказать, что она подражала моей бабушке. Она заменила мне ее. У нее появились бабушкины жесты, те же манеры, те же обороты речи. Одна и та же личность, чей блеск, чья энергия предопределяли в Париже успех выставки или театральной пьесы, в Плесси-ле-Водрёе превращалась в заботливую мать семейства, мирно вяжущую за столом, в активную благотворительницу, в чуть ли не седую старушку, в скромную наследницу сокровищ прошлого. Общество Эрика Сати сменяло общество сельского кюре Мушу, а трубы почти скандальной славы уступали место деревенской фисгармонии и молитвам во славу Девы Марии, в которых заунывные повторы являли собой звуковой образ нашей неподвижности, уступали место песнопениям, звучащим сквозь завесу времени во мне до сих пор:
или:
Вознесися, душа моя,
К Богу вознесися, душа моя.
Все время возносись,
К Богу возносись,
Все время возносись,
К Богу, душа моя.
или:
О Дева Мария, Всевышнего матерь,
Спасителя матерь, агнца Божьего,
Дева несравненная, Израиля надежда,
Возлюбленная дева на светлой паперти небес,
Дева Мария, о нас помолись.
О матерь пречистая Спасителя нашего,
Матерь пречистая, матерь Христа,
Пресвятая Дева, мистический символ.
Источник запечатанный, спасения врата,
Дева Мария, о нас помолись!
или еще:
Прииди к нам, царицею будь,
Молим мы, колени преклонив,
Да пребудет царствие твое,
Прииди к нам, к нам прииди!
Матери Божьей нашей
Помолимся, колени преклонив,
С улыбкою нас прощающей
Прииди к нам, к нам прииди!
Боже мой! У меня до сих пор звучат в ушах эти песнопения, столько раз слышанные в Плесси-ле-Водрёе времен моего детства, и я наслаждаюсь запахом ладана в старой церкви, и, несмотря на слезы, туманящие мне глаза, я вижу среди прихожан тетю Габриэль, которая тоже поет, держа в руках толстый черный молитвенник и роняя из него портреты тех, кто почил в бозе.
Каждый из нас состоит прежде всего из других. Меняя свое окружение, тетя Габриэль меняла и свой характер, меняла направление своих мыслей, свою личность. Она топила авангард в хворях детей, в благотворительных праздниках на открытом воздухе, во всех ароматах прошлого. Она открывала для себя наших предков, казненных ее предками. И забывала своих предков. Она растворялась в истории нашего дома. В ней воскресали все наши усопшие, в ней, чья кровь когда-то возвела их на эшафот. Летом к ней возвращалось чувство семьи и традиции. Она забывала все, что не было связано с нашей фамилией. Забывала балы на улице Варенн, дадаизм, сюрреализм, негритянское искусство, блестящие премьеры и гениальных музыкантов. Она развила свой талант до такой степени, что казалась лишенной его. И она действительно лишалась его. Она становилась такой же глупой, как мы, и говорила только о соседях и о погоде. А умственные способности к ней возвращались с первыми заморозками, с листопадом, с началом учебного года, театрального сезона и вернисажей. И тогда она возвращалась к своему амплуа Богоматери авангарда. Ум ее обогащался умом других. Она простодушно выдавала свой ужасный секрет. Секрет всех людей: каждый из нас всегда является лишь тем, что думают о нем другие.
В Плесси-ле-Водрёе наши бессмертные покойники порешили, что тетя Габриэль является прежде всего женой старшего в семье. Потом, много позже, кое-кому захотелось убить этих покойников, чтобы мы могли наконец стать чем-то другим, а не просто частицей семьи. В начале республиканского, светского XX века под защитой стен и водяных рвов Плесси-ле-Водрёя наши покойники, слава Богу, благодаря римской католической и апостольской Церкви, благодаря победоносной армии и нашей непреклонной памяти, чувствовали себя все еще довольно сносно. А вот в Париже их уже то и дело дергали за ноги разные злые и весьма хитрые чертенята.