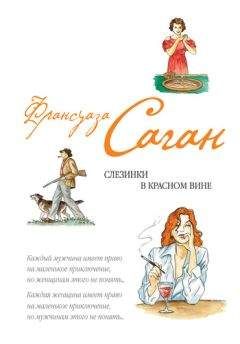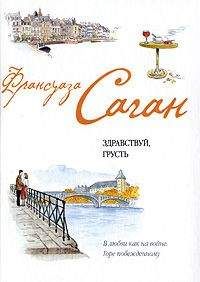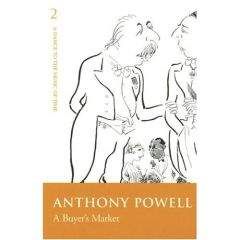«Юная Парка», – подумал он и, будто по иронии, увидел, как она протянула руку, взяла лежавшую рядом изысканную, многоцветную вышивку, которую недавно начала, и, сдвинув брови, методично задвигала длинными точеными пальцами. Это было весьма символично – бесполезная вышивка, которая останется ей… Было немыслимо и невообразимо, чтобы она связала свитер, шапку, кошелек, в общем, что угодно, для кого бы то ни было. Он никогда не видел, чтобы она передала кому-нибудь хлеб, придержала дверь, дала прикурить. И если бросила ему недавно зажигалку через комнату, то лишь ради того, чтобы хвастливо, подчеркнуто напомнить, что даже его собственный и весьма дорогой подарок – который он, влюбленный в нее, сам выбрал у ювелира – она снисходит ему одолжить. Она ничего для него не делала даром, и единственное преимущество, которое он имел в ее глазах по сравнению с миллионами голодных китайчат, состояло в том, что у него в кармане было достаточно, чтобы оплатить счет в «Максиме».
Она нахмурилась и опустила глаза к вышивке, очевидно, столкнувшись с какой-то технической трудностью. Потом, смирившись, скрестила лодыжки, собрала мотки шерсти и положила все перед собой. «Как она белокура, невероятно белокура», – мельком подумал он, прежде чем она повернулась к нему и открыла рот:
– Знаете… Сирил меня любит. Я оставлю вас.
И он тотчас же почувствовал, как его пронзила чудовищная тоска, ему захотелось блевать, цепляться за ее платье. И белокурые волосы в последний раз, словно пламенем, озарили то, чем отныне станет его дальнейшая жизнь: ад.
Несколько слезинок в красном вине
Один час… Даю ему один час. Час опоздания – это максимум, что может вытерпеть женщина. Такая, как я, во всяком случае. Счастливая в браке, красивая, признанно красивая, соблазнительная и желанная. Которую желает не одна дюжина типов… шестерых могу даже назвать. Женщина в восхитительной шляпе и в восхитительных лисах, которая вот уже полчаса, сидя на каменной скамье в парижском сквере, ждет опаздывающего мужчину – что постыдно, немыслимо. Нелепо. Я красива, элегантна, желанна и нелепа. Но через полтора часа я все еще буду здесь и, стоит ему только захотеть, истопчу свою гнусную шляпу и брошу эти гадкие шкуры на скамейке. Стоит ему только захотеть, придя сюда наконец, я разденусь догола в этом сквере и потащусь за ним пешком через весь город.
А если не придет, покончу с собой. Вернусь домой, поцелую Анри, положу на постель свою шляпу (потому что это приносит несчастье) и повешу лис на вешалку (потому что люблю порядок). Потом возьму в своей чудесной ванной пузырек, припрятанный за средствами для снятия макияжа, вытряхну содержимое на ладонь и проглочу одну за другой эти горькие белые таблетки, запивая теплой водой. Как раз сколько надо. Ни слишком много, ни слишком мало. Не собираюсь так смешно промахнуться с этим делом. Хватит с меня смешного: любила смешно, жила смешно, надо хоть умереть без нелепостей. У меня больше нет юмора. Любовь есть, причем с большой буквы, а вот от юмора все буквы, и большие и маленькие, давно вылетели в окно. С тех пор как появился Бернар Фару.
Бернар Фару! Что за имя!.. Никакого очарования, ничего. Только подумать, ведь я, Роберта Дюрьё, была счастливой в браке женщиной, элегантной, соблазнительной, желанной и так далее. Женщиной, которая не знала Бернара Фару. А теперь вот уже целых полгода я тряпка, которая знает Бернара Фару. Бернара Фару, работника страховой конторы, не особенно красивого, не особенно умного, самодовольного эгоиста и хама – поскольку заставляет меня ждать теперь уже десять минут – и которого я люблю. Но ни секунды не прожду больше одного часа. Впрочем, уже темнеет, скамья ледяная, в сквере пустынно. Со мной тут может случиться что угодно. Напасть на меня может кто угодно, этот бродяга, например, который притащился сюда вместе со своим мешком, худобой и грязью. Даже не старый еще, мог бы запросто мне шею свернуть. Но что это он делает? Плюхается на мою скамейку? Только этого не хватало! Ну и видок, должно быть, у нас… я в своих лисах, он в своих лохмотьях! То-то Бернар посмеется. Если придет.
Люка Дюдеван, известный под кличкой «Люлю Портки», осторожно вытянул ноги и с облегчением вздохнул. Он все верно приметил: кроме дурехи с ее кошкой вокруг шеи, на скамейке больше никого. Это стало просто мученьем каким-то – найти спокойную скамейку. С первых же погожих дней все горожане без машин захватывали облюбованные Люка скамейки, его верные, гладкие и голые зимние скамейки. Нежились тут часами, в губы целовались, как же без этого, книжки читали, а иногда – хуже не придумаешь – сторожили тут своих горластых карапузов, которые косо на него поглядывали. Но сейчас уже темно, и эта каменная, чертовски жесткая скамья в мрачноватом сквере не привлекала ни упитанных, ни углозадых обывателей. Кроме этой вот брюнетки. И впрямь красивой в своей шляпе. Все смотрит в сторону аллеи, явно поджидает кого-то… Надо быть полным кретином, чтобы заставлять такую женщину ждать! Если бы Люка не отказался давным-давно от красивых женщин, от красивых машин и от всей нашей распрекрасной цивилизации, он бы за ней приударил. И если бы не его рванье, это вполне могло бы сработать. В свои тридцать восемь лет, прилично одетый и навеселе, он, душка Люка 60-х, мог любую подцепить.
Он открыл мешок, достал свою драгоценную, полную до краев бутыль, откупорил и уже поднял локоть, но вдруг остановился. Плечи сидевшей рядом женщины сотрясались от беззвучных, но неистовых рыданий. Жутко было на это смотреть, и Люка словно против воли придвинул к ней свою драгоценную бутыль. Стекло звякнуло о камень скамьи, женщина повернулась, и Люка увидел ее лицо: два светлых глаза, блестевшие под вуалеткой, обведенные карандашом и горем, переполненные круглыми, неудержимыми слезами. Они смотрели друг на друга довольно долго, взгляд голубой и взгляд черный, взгляд безутешный и взгляд сочувственный. Но вдруг она словно очнулась, пробормотала «спасибо», взяла драгоценную бутылку, отхлебнула большой глоток и вернула. Слезы немедленно иссякли. Она вновь порозовела, почти улыбнулась, и Люка в который раз гордо отметил несказанную благотворность красного вина.
– Здорово помогает, – сказал он со всем достоинством верного потребителя.
– Да, очень, – отозвалась она, доставая носовой платок из кармана.
И высморкалась, да так мощно, что звук удивил ее саму. Бросила в сторону Люка извиняющийся взгляд, но тот, джентльмен до кончиков ногтей, пил в свой черед, будто не слыша ничего, кроме дивной песни вина в своих жилах.
– Что это за марка? – поинтересовалась она.
– Понятия не имею, – сказал Люка, вытирая губы рукавом. – Во всяком случае, тринадцать градусов. Я его беру у Добера, приятеля. Еще чуточку хотите? – предложил он любезно, но без особого воодушевления, потому что, вообще-то, рассчитывал на эту бутылку, чтобы скрасить вечер.
– Нет, нет, большое спасибо, – тактично отказалась брюнетка. – Но мне от этого полегчало, в самом деле. Я в этом нуждалась…
После того как она сама намекнула на свои слезы, Люка мог осведомиться об их причине:
– У вас горе какое или надинамил кто?
– Думаю, что надинамил, – ответила она. – Сейчас уже на целых полчаса.
– Мудак он, этот тип, – сказал Люка твердо. – Полный мудила, с вашего позволения.
– Но больше часа я бы не стала ждать, – продолжила она окрепшим голосом. – Уж в этом-то я поклялась. Без одной шесть встаю, возвращаюсь домой и… И вот.
– На вашем месте, – начал Люка, – я… Эх, уж я бы!..
Он сделал неопределенный жест рукой, его лицо стало задумчивым. «И почти красивым», – подумала Роберта.
– Так что на моем месте? – подхватила она.
– Меня это, конечно, не касается, – продолжил Люка, – но я в свое время тоже, бывало, ждал женщин на скамейках, и всякий раз, когда это было больше часа с четвертью, дело плохо кончалось… Для меня, я хочу сказать.
Она пристально на него посмотрела:
– А в другие разы?.. Когда вы уходили… раньше?
– Ежели уходил раньше, значит, мог уйти, – сказал Люка, глядя на нее в свой черед. – Это они смекали довольно быстро. И потом прибегали как миленькие.
Наступило задумчивое молчание. Роберта и Люка казались аллегорической парой: «Философ и его ученик». Она посмотрела на свои ноги, потом на аллею. Словно в рассеянности протянула руку к Люка, и тот, смирившись, вложил в нее бутылку. Он нес моральную ответственность. Она отхлебнула (довольно большой глоток, отметил он с грустью) и вытерла губы рукавом из роскошной шерсти, тем же жестом, что и он.
– А когда они вас нагоняли? – спросила она с колебанием в голосе.
– Я уж у себя был, – засмеялся Люка (невольно, потому что у него не хватало трех зубов спереди и это его раздражало в преддверии своей новой победы). – А там у меня Клопинетта, и уж она-то меня точно любит. Так что… – закончил Люка кратко, если и не совсем грамматически верно.