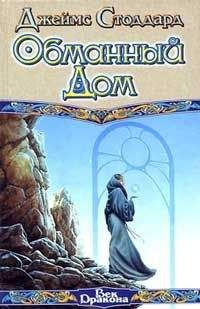В главном корпусе был бар, где продавали очень вкусное сырное печенье и варили отменный кофе. Днем, в обеденный перерыв, в баре собирались работники санатория — горничные, садовники, прачки, пили кофе с коньяком, разговаривали и по-латышски, и по-русски. И тоже все нормально было. В скобках — блин! (Междометие, выражающее досаду и недоумение.)
Иногда в баре между перебравшими писателями вспыхивали мордобои, но кратковременные и без особых увечий.
В Риге жил друг моего папы, художник театра русской драмы дядя Юра Феоктистов с женой Тасей.
— Дорогая, — поучительно и слегка в нос говорила Тася моей маме. — Ни в коем случае нельзя спать на боку, от этого образуются морщины на груди. Спать надо только на спине, широко раскинув руки. И еще, дорогая. На ночь не забудь намазать лоб сметаной и сверху аккуратно натянуть на голову чулок — это прекрасное средство от морщин на лбу.
Тася была такой стопроцентной женщиной, в степени «N плюс один», женщиной из анекдотов про женщин.
Вот договорились мы все вместе куда-то идти — гулять ли, или в кино, или на выставку. Приходит дядя Юра, а Тася является, опоздав на полчаса.
— Дорогая! — в ажиотаже восклицает она, не обращая вообще никакого внимания на собственного мужа. — В угловом — потрясающие кофточки! Я заняла очередь, идем!
Все, вот вам и кино, вот вам и прогулка.
Дядю Юру начинает просто, что называется, «колбасить не по-детски».
— Кофточки! — с нешуточной ненавистью повторяет он и уходит прочь, ни слова не говоря. Я бегу за ним, потому что тоже не хочу в очередь. С дядей Юрой можно хотя бы гулять быстрым шагом, а не плестись еле-еле, как мама и тетя Тася, у него можно спрашивать разные слова по-латышски…
С дядей Юрой мы гуляем по берегу, потом идем в город и становимся свидетелями происшествия.
По проезжей части вихляво едет на велосипеде парнишка в черной спецовке. «Подрезает» одну машину, другую. Падает с велосипеда, машины едва успевают затормозить. Все целы, но собирается толпа. Парнишка сидит на бордюре, рядом с велосипедом. Абсолютно пьяный. К велосипеду приторочены щетки на длинных железных прутьях. Парень — трубочист! На него кричит по-латышски усатый гаишник.
Вдруг в толпе мы с дядей Юрой замечаем маму и тетю Тасю, счастливых обладательниц «кофточек».
Мама, обожающая защищать чужих и восстанавливать справедливость, особенно если это кто-то видит, начинает уговаривать гаишников отпустить пьяного трубочиста.
— Отберите у него велосипед, и пусть идет домой спать. Мальчик, тебе сколько лет?
В Латвии даже при коммунистах старшим школьникам разрешалось на каникулах подрабатывать.
Тетя Тася участвует в разговоре в качестве переводчика.
Гаишник забирает велосипед, а пьяный подросток ковыляет восвояси. Он протискивается сквозь зевак совсем рядом со мной, и я украдкой прикасаюсь к его черной спецовке и загадываю желание — ведь если прикоснуться к трубочисту и загадать желание, оно непременно сбудется!
Какое?
Учиться без троек? Чтобы собаку завели? Чтобы волосы стали нормального, серенького цвета?
Не помню.
Там же, на взморье, мама однажды выхватила меня из какой-то детской компании, и мы со взрослой компанией запихнулись в «рафик» и поехали в далекий рыбацкий колхоз, смотреть кино в доме культуры.
Мы опоздали к началу сеанса, вошли в темный зал, где стояла полная тишина, а на экране колыхалась волнами трава и женщина с великолепными волосами курила папиросу, сидя на плетне, спиной к зрителям.
От этих картин, от просвечивающих сквозь ладонь девочки угольков, от предгрозового ветра, катящего по деревянному столу хлеб, от парнишки с птичкой на голове я остолбенела и с трудом очнулась только обратной дорогой.
Похоже, что так же остолбенели и посетители клуба, рыболовы, потому что никто в зале не шелохнулся, ничего не переспрашивал, не выражал недоумений.
Может, короткие латышские субтитры давали им исчерпывающее представление о происходящем?
Или они, так же как и я, ничего не понимая, околдовались именно волшебством изображения, гением оператора Рерберга?
Много лет спустя я познакомилась с Георгием Ивановичем, бывала у него дома в Брюсовом переулке, рядом с Центральным телеграфом, который спроектировал его отец, архитектор, и всякий раз приятно поражалась полным отсутствием какого бы то ни было зазнайства у этого великого человека.
— Здорово, рыжая! Яичницу будешь?
Или, по телефону:
— Ксюша, это Гоша. Твой-то дома?
Я все собиралась рассказать ему про «Зеркало» в клубе рыболовецкой артели, но так и не собралась.
В августе девяносто девятого Георгий Иванович умер от сердечного приступа в ванной.
Не захотел в двадцать первый век… Решил не ходить туда.
На взморье я обзавелась другом Никитой, сыном художника-кузнеца, мастера по художественной ковке.
— Мы сейчас с папой в луна-парк едем! Давай с нами? — пригласил он.
— В луна-парк?..
Приглашение заманчивое, но что-то слабо верится, что папа вот так вот возьмет, все бросит и поедет с нами веселиться и кататься на каруселях. Я не верю Никите. Такого просто не может быть. Папа должен плохо себя чувствовать, болеть, его нельзя беспокоить.
— А что, твой папа хорошо себя чувствует? — осторожно спрашиваю я.
— Да!
— Ты, наверное, просто не знаешь. Он тебя не хочет расстраивать и не говорит.
— Да нет, он с утра на рыбалку ездил, а теперь вот сам предложил, в луна-парк чтобы…
Сам предложил в луна-парк! Невероятно! Да врет все этот Никита!
— Ты просто не знаешь. Родители не могут так вот взять ни с того ни с сего в луна-парк поехать. Они всегда плохо себя чувствуют. Им надо прилечь, отдохнуть.
Никита озадачен.
— Знаешь, давай пойдем его спросим, — предлагает он.
В баре находим «художественного кузнеца» лет тридцати пяти, пьющего пивко и балагурящего с барменшей (барвуменшей) Айной.
— Пап, ты хорошо себя чувствуешь? — интересуется сын.
— Да вроде неплохо, — поигрывает мускулами художественный кузнец.
— Точно хорошо? — допытывается сын.
Растроганный чуткостью сына, кузнец смеется и угощает нас сырным печеньем и маленькими сушеными рыбками.
— Что, у вас вот так вот прямо ничего не болит? — все еще не верю я. — Ни голова, ни сердце? И давление нормальное?
— Доктором хочешь стать? — потешается пышущий здоровьем кузнец, и мы едем в луна-парк, катаемся на каруселях, стреляем в тире и выигрываем призы в кегельбане, и переодеваясь к ужину, я взахлеб рассказываю маме, где мы были, и какой отличный папа у Никиты — у него ничего не болит, он хорошо себя чувствует, и давление в норме…
— Да, родителей не выбирают, — неприятно усмехаясь, говорит мама.
— Не выбирают, — соглашаюсь я. Именно соглашаюсь, а не сокрушаюсь.
Начинается страшный скандал.
«Конечно, ты бы выбрала себе что-нибудь получше! Помоложе! Ну, ничего не поделаешь, потерпи свою мать, старуху, недолго осталось, я скоро умру…»
Умрет! Мама часто говорит, что скоро умрет. Ужас, даже подумать страшно. Меня отдадут в детдом, ведь больше у меня никого нет, кроме мамы. Мне страшно, что она умрет, но я не могу выдавить из себя ни слез, ни слов «мамочка, ну что ты, ты лучше всех, не умирай». А она их явно ждет. Но еще больше, чем страшно, мне обидно, что она так кричит на меня, таким громким неприятным голосом, полуодетая, затянутая какими-то белыми на крючочках приспособлениями, делающими ее стройнее, с напудренным к вечеру лицом, накрашенными красными губами.
Ведь я так ее люблю. Особенно когда она ненакрашенная, непричесанная, с мягким немолодым лицом, в домашней одежде, похожая на доброго заиньку.
— Неблагодарная! Могла бы тебя не брать с собой, отдохнуть, как человек! Нет, взяла, к морю! Да я тебя в интернат отдам!
Почему-то именно в Прибалтике случались ужасные скандалы. Мама придиралась ко мне:
— Поздоровайся. Кто так здоровается? Сядь. Кто так сидит? Встань сию минуту! Ты как стоишь? Ты как разговариваешь? Да на тебя смотреть противно…
Я раздражала ее самим фактом своего существования рядом. Мешала жить. Иногда она куда-то исчезала на несколько часов, и я ходила по берегу, на море смотрела, или по территории дома отдыха, или сидела в холле, читала в библиотеке, то и дело возвращаясь в «шведский домик», где мы жили, стучала в дверь, но никто не открывал, и ключа под ковриком не было.
— Не надо постоянно ходить за мной по пятам, — раздраженно сказала однажды мама. — Приехал Кайсын, мы редко видимся, и мне, знаешь, хочется с ним побыть…
И я никак не могла понять — почему надо так надолго исчезать?
Что они там делают?
Потом, через несколько лет, Кайсын как-то рассосался, куда-то девался, потерялся, у него появились другие привязанности… Вот уж когда мне стало совсем фигово, лучше бы мне вовсе на свет не родиться — мама все время была такая злая и мрачная, что ни в сказке сказать, ни на ноутбуке настучать. Мне казалось, что она меня ненавидит.