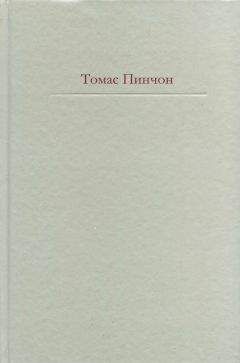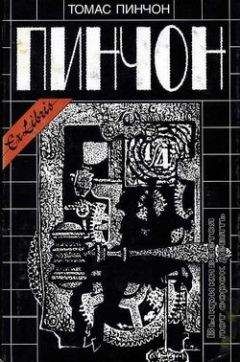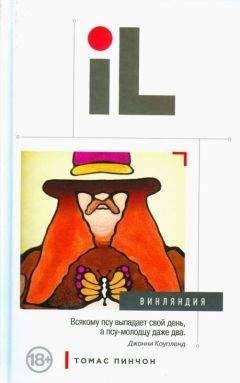Стало быть, следующий после Любви урок Байрона — Молчание.
Длительность его горения подбирается к 600 часам, и наблюдатели из Швейцарии начинают присматриваться к Байрону пристальнее. Наблюдательный Центр «Феба» располагается под малоизвестной Альпой — промозглая комната, под завязку набитая германскими электрожелезками, стеклом, латунью, эбонитом и серебром, массивные блоки терминалов косматы от латунных зажимов и винтов, а штат сверхстерильных наблюдателей в белых халатах бродит от счетчика к счетчику, легкие, как снежные смерчики, удостоверяются, что все идет как надо, что ни у единой лампочки средняя эксплуатационная долговечность не продлится больше положенного. Можете себе представить, что будет с рынком, если начнется такое.
Байрон проходит 600-часовую красную черту Наблюдения, и его незамедлительно проверяют, как полагается, на сопротивление нити накала, температуру горения, вакуум, потребляемую мощность. Все в норме. От ныне Байрона будут проверять каждые 50 часов. Всякий раз, когда подходит срок, на станции слежения раздается тихий перезвон.
При 800 часах — еще одна положенная предосторожность — в опиекурильню для передислокации Байрона засылается берлинская агентесса. На ней лайковые перчатки с асбестовой подкладкой и семидюймовые шпильки — нет, не для того, чтобы сливаться с толпой, а чтобы достать до люстры и вывернуть Байрона. Остальные лампочки наблюдают, едва сдерживая ужас. Весть разносится по всей Энергосети. Практически со скоростью света все лампочки до единой — «Азо», взирающие сверху на пустые и черные бакелитовые улицы, «Нитралампен» и «Вотаны Г» на ночных футбольных матчах, «Юст-Вольфрамы», «Моноватты» и «Сириусы» — все башковитые лампочки в Европе знают, что произошло. Все умолкают от важности этого события, от смирения пред ликом той борьбы, кою все они считали мифом. Мы ничего не можем поделать, гудит общая мысль по-над пастбищами спящих овец, вдоль по автобанам, и до горчайших кнехтов на северных угольных причалах, мы никогда ничего не могли поделать… Едва некто открывает нам малейшую надежду на трансценденцию — тут же является Центр Раскаленных Уродств и забирает его. Некоторые, там и сям, может, и протестуют, но это лишь информация, с модулируемым накалом, безвредная, и рядом не стоит со взрывами прямо в морду властям предержащим, — взрывами, которые некогда, еще в лапочной палате, в невинности своей прозревал Байрон.
Его забирают в Нойкёльн, в подвальную комнату, дом стеклодува, которой боится ночи, и потому Байрон будет гореть у него неизменно, смотреть за вазочками из флинтгласа, грифонами и цветочными кораблями, горными козлами в прыжке, зелеными паутинами, мрачными ледяными божествами. Тут одна из многих так называемых «контрольных точек», где с легкостью можно наблюдать за подозрительными лампочками.
Не проходит и двух недель, как вдоль ледяных и каменных коридоров штаб-квартиры «Феба» разносится эхо гонга, и лица на секундочку отвращаются от счетчиков. Гонг тут звучит нечасто. Гонги — это особое. Байрон миновал 1000-часовую отметку, и теперь процедура стандартна: Центр Раскаленных Уродств высылает в Берлин убийцу-порученца.
Однако происходит нечто странное. Да, чертовски странное. План таков: расколотить Байрона и прямо там же, в мастерской, отправить в стеклобой и шихту — вольфрам, конечно, утилизовать, — и пускай себе реинкарнирует в следующей работе стеклодува (дирижабль, отправляющийся в дальний полет с вершины белого небоскреба). Для Байрона такой расклад — отнюдь не конец всему: Байрон не хуже «Феба» знает, сколько часов проработал. Здесь, в этой мастерской, он довольно уже насмотрелся на то, как стекло плавят обратно в бесструктурный общий котел, из которого истекают и проистекают всевозможные стеклоформы, и с удовольствием испытал бы все это сам. Но ему не сойти с кармического колеса. Пылающая оранжевая шихта — дразнилка, издевательство. Байрону не сбежать, он обречен на бесконечный оборот патронов и лампокрадов. Вот внутрь влетает юный Гензель Гешвиндих, веймарский беспризорник — выкручивает Байрона из потолка в бережный карман и — Gesssschhhhmndig![372] — опять в двери. Тьма вторгается в сны стеклодува. Из всех неприятностей, что его грезы выхватывают из ночи, погашенный свет хуже всех. Свет в его снах всегда был надеждой: основной такой, смертной надеждой. По мере того как спиралевидно обламываются контакты, надежда оборачивается тьмою, и сегодня стеклодув просыпается с плачем:
— Кто? Кто?
«Феб» далек от неистовства. Такое и раньше бывало. И на этот случай есть своя процедура. Некоторым работникам предстоят сверхурочные, и от свалившегося с неба дохода настает эдакое смутное удовлетворение, будто на полный желудок, а равно смутное возбуждение от перебоя в рутине. Если тебе высоких чувств, про «Феб» и не думай. Их каменноликие поисковые партии выдвигаются на улицы. Они более-менее знают, где в этом городе искать. Они предполагают, что ни один их потребитель не ведает о бессмертии Байрона. Следовательно, данные о похищениях Небессмертных лампочек к Байрону тоже применимы. А данные накапливаются в бедных районах столицы, в еврейских кварталах, там, где наркоманы, гомосексуалисты, проститутки и ворожеи. Здесь обитают самые вероятные лампокрады — в смысле понятия преступности. Гляньте, какая пропаганда. Это преступление против нравственности. «Феб» сделал открытие — одно из величайших неоткрытых открытий нашего времени, — что потребителям нужно ощущать греховность. Что муки совести в надлежащих незримых руках — крайне мощное оружие. В Америке у Лайла Елейна и его психологов имелись цифры, показания специалистов и деньги (деньги в пуританском смысле — внешнее и зримое одобрение их начинаний) — хватало, чтобы на перепутье меж научной теорией и фактом подтолкнуть Открытие Совести куда надо. В последние годы поддерживать Лайла Елейна суждено было темпам роста (на самом деле Елейна поддерживал секстет почетных гробоносцев — старшие партнеры «Одиноккьи, Беддна, Беспросвита, Де-Тупаи и Куца» плюс Лайл-младший, который чихал. Бадди в последнюю минуту решил сходить на «Дракулу». Оно и к лучшему). Из всего, что оставил Елейн, Ересь Лампокрадства, вероятно, была грандиознейшим наследием. Это не просто значит, что кто-то не покупает лампочки. Это значит, кто-то не подает мощность в патрон! Это грех как против «Феба», так и против Энергосети. А уж такую вольницу они не потерпят.
Стало быть, топтуны «Феба» выходят на поиски украденного Байрона. Только беспризорник уже смотался из города, уехал в Гамбург, у проститутки с Риппербана сменял Байрона на морфий, сегодня у этой женщины клиент — бухгалтер-калькулятор, которому нравится, чтобы электролампочки вкручивали ему в жопу, а кроме того, гусак этот принес чутка гашиша покурить, поэтому, уходя, забывает, что Байрон по-прежнему у него в жопе — собственно, вообще этого не обнаруживает, потому что когда ему приспичивает сесть (а в трамваях всю дорогу домой он стоял), то садится он у себя дома в туалете и плюх! Байрон шлепается в воду и шшшлюхххх! смывается по стокам в устье Эльбы. Он достаточно округл и весь путь проделывает гладко. Много дней носит его по Северному морю, пока он не добирается до Гельголанда — этого красно-белого пирожного «наполеон», вываленного в море. Некоторое время живет в отеле между Хенгстом и Мёнхом, пока однажды его не возвращает на континент один очень старый священник, разнюхавший про бессмертие Байрона посредством рядового сна о вкусе некоего «Хохгеймера» 1911 года… как вдруг — огромный берлинский Eityalast[373], гулкая и тусклая каверна под железными балками стропил, запах женщин в синих тенях: парфюмы, кожа, меховые костюмы для катания, в воздухе ледяная пыль, ноги сверкают, выпирают ляжки, вожделенье вспыхивает инфлюэнцей, беспомощность в конце щелчка хлыстом, сквозь солнечные лучи, забитые порошком льда, проносятся ракеты, и голос в смазанном зеркале под ногой молвит:
— Отыщи того, кто сотворил чудо. Он святой. Разоблачи его. Споспешествуй его канонизации… — Имя — в том списке, который старик-священник тотчас составляет: где-то тысяча туристов, побывавших на Гельголанде после того, как Байрона нашли на берегу. Священник начинает поиски — пешком, поездом, «испано-сюизой», проверяет каждого туриста из списка. Но не продвигается дальше Нюрнберга, где его саквояж с Байроном, обернутым в стихарь, крадет транссектант — лютеранин по фамилии Маусмахер, склонный рядиться в римско-католическое облачение. Этот Ма-усмахер, не удовлетворяясь стоянием перед собственным зеркалом и рисованием в воздухе папских крестов, полагает, что будет настоящий чумовой оттяг, если при полном параде выйти на поле цеппелинов во время нацистского факельного шествия и погулять там, благословляя кого попало. Пылают зеленые факелы, красные свастики, мерцает медь, а отец Маусмахер оглядывает сиськи-попки, талии-пуза, мурлычет духовную песенку, что-то из Баха, улыбается, шагая сквозь лес «зиг-хайлей» и хоров «Die Fahne Hoch»[374]. Байрон тайком выскальзывает из краденого облаченья на землю. После чего мимо него марширует несколько сотен тысяч сапог и ботинок, и ни один, знамо дело, его даже не задевает. На следующий день его находит (поле теперь мертвенно-пусто, фалангировано, бледно, испещрено длинными бороздами грязных луж, утренние облака тянутся за позолоченной свастикой и венком) бедный еврей-старьевщик и берет на службу — еще на 15 лет сохранности вопреки случаю и «Фебу». Байрона будут вворачивать в одну маму (Mutter) за другой: под таким названием известны внутренние резьбы германских патронов для электролампочек, а почему именно — неясно никому.