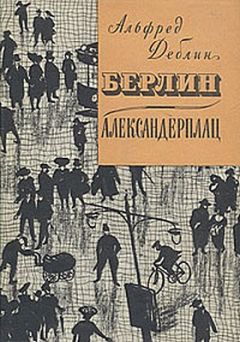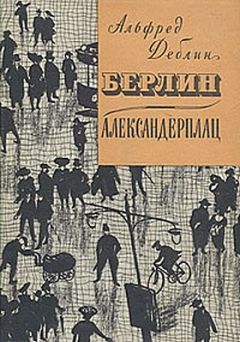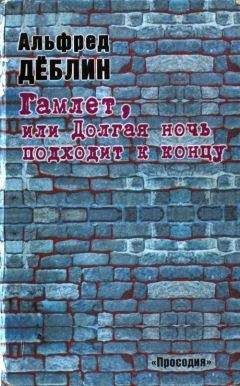— Ну что вы делаете тут? Вам нехорошо?
Франц оторвался от перил, вышел во двор. А когда взялся за ручку двери, узнал давешнего еврея из соседнего дома.
— Отвяжись ты от меня! Чего пристал?
— Ах, да ничего, так вы же все кряхтите, стонете, уж и спросить нельзя, что с вами?
А в приоткрытую дверь ворвалась улица, все те же дома, снующие туда и сюда люди, сползающие крыши. Франц распахнул дверь, и во двор, а еврей ему вдогонку:
— Ну-ну, что случилось? Не так уж все плохо. Не пропадете. Берлин велик. Где тысячи живут, — проживет еще один.
Двор темный, глубокий, как колодец. Франц остановился возле мусорного ящика. И вдруг громко запел; песня ударила в стены. И шляпу снял, как шарманщик.
Звуки эхом отражались от стен. Здорово! Собственный голос звенел у него в ушах. Он пел во все горло, так в тюрьме не позволили бы петь. Что за песня билась в стену? «Несется клич, как грома гул…» Четко, бодро — как в строю! А припев «Ювиваллераллера» — из другой песни. Никто не обращал на него внимания. У ворот его встретил еврей.
— Вы хорошо пели. Вы очень хорошо пели! С таким голосом, как у вас, можно золотом набить карманы.
Еврей пошел за ним, взял его под руку и, без умолку болтая, потащил его по улице вперед; так вместе и свернули они на Горманнштрассе — еврей и плечистый, рослый парень в макинтоше. Парень шел крепко стиснув зубы, словно его вот-вот вырвет желчью.
ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРИШЕЛ В СЕБЯ
Еврей привел его в какую-то комнату, где топилась железная печка, усадил на диван.
— Ну, вот мы и на месте. Присаживайтесь. Шляпу можете снять, а можете и не снимать, как угодно. Посидите, а я только позову кое-кого, кто вам понравится. Сам я здесь не живу, знаете, я здесь только гость, как и вы… Ну, и, как это бывает, один гость другого тянет, если в доме тепло.
Бывший заключенный остался в комнате один. «Несется клич, как грома гул, как звон мечей и волн прибой…» Как это было всё? — Он ехал на трамвае, глядел в окно, и красные стены тюрьмы виднелись за деревьями, осыпались яркие осенние листья. Красные стены все еще мелькали у него перед глазами, и сейчас, сидя на диване, он смотрел на них не отрываясь. Большое счастье — жить в этих стенах; по крайней мере знаешь, как День начинается и как проходит. (Франц, довольно в прятки играть! И так уже четыре года прятался. Голову выше! Погляди вокруг себя, не прятаться же тебе всю жизнь…) Петь, свистеть и шуметь запрещается. Заключенные должны по сигналу к подъему тотчас встать, Убрать койки, умыться, причесаться, вычистить платье и одеться. Мыло должно отпускаться в достаточном количестве. Бум — бьет колокол, в пять тридцать — подъем; бум — в шесть тридцать отпирают камеры; бум, бум — становись на поверку! Бум — получай завтрак; потом — работа, перерыв; бум, бум, бум — обед… Эй, ты, чего нос воротишь? На наших хлебах не разъешься! Запевалы — шаг вперед! Явиться на спевку в пять сорок. Осмелюсь доложить, не могу петь — охрип. В шесть камеры запираются. Спокойной ночи, еще день прошел. Да, большое счастье жить в этих стенах. Мне-то здорово впаяли, почти как за предумышленное убийство, а ведь убийство было неумышленное, только телесное повреждение со смертельным исходом; не так уж страшно, а вот ведь записали в уголовники, — так и впрямь бандитом станешь.
Высокий длинноволосый старый еврей в черной ермолке, сдвинутой на затылок, давно уже сидел напротив него. В городе Сузе жил некогда муж по имени Мардохей, и взрастил он у себя в доме Эсфирь, дочь своего дяди. И была эта девушка прекрасна лицом и станом. Старик отвел глаза от Франца и повернул голову к рыжему.
— Где вы его выкопали?
— Да он бегал из дома в дом. А в одном дворе остановился и запел.
— Запел?
— Да, солдатские песни.
— Он, верно, озяб?
— Пожалуй.
Старик разглядывал Франца.
В первый день пасхи лишь неверные могут хоронить покойника, на второй день могут хоронить и сыны Израиля. Да поступят они так же в дни Нового года. А кому приписывают слова учения Раббанан: «Кто вкусит от павшей птицы чистой, тот не осквернится. Но осквернится тот, кто вкусит от печени или зоба ее»?
Длинной желтой рукой старик дотронулся до руки Франца, лежавшей на коленях поверх пальто.
— Слушайте, снимите пальто. Здесь ведь жарко. Мы люди старые, мы круглый год зябнем, а для вас тут слишком жарко.
Франц сидел на диване и искоса поглядывал на свою руку. Да, он ходил по улицам от двора к двору, надо же было посмотреть, что творится на белом свете. Ему захотелось встать и уйти, взглядом он искал дверь в темной комнате. Но старик силой усадил его обратно на диван.
— Да оставайтесь же! Что, у вас дети плачут?
Но ему хотелось уйти. А старик держал его за кисть руки и сжимал ее, сжимал…
— А ну посмотрим, кто сильнее, вы или я. Сидите, раз я вам говорю. — И переходя на крик: — А вы все-таки останетесь. И выслушаете, что я скажу, птенец вы желторотый. Возьмите себя в руки, нечестивец вы этакий.
Затем обратясь к рыжему, который схватил Франца за плечи:
— А вам что? Убирайтесь. Разве я вас звал? Я с ним и сам справлюсь.
Что этим людям нужно от него? Он хотел уйти, он пытался встать, но старик вдавил его в диван. Тогда он крикнул:
— Что вы от меня хотите?
— Ругайтесь, отведите душу.
— Пустите меня. Я хочу уйти отсюда.
— Что, опять на улицу, опять по дворам?
Тут старик встал со стула, шумно прошелся взад и вперед по комнате и сказал:
— Пускай кричит, сколько ему угодно. Пускай делает, что хочет. Но только не у меня. Открой ему дверь.
— Подумаешь! — «Кричит!» Как будто у вас никогда и не кричат?
— Не приводите в мой дом людей, которые шумят. У дочери дети больны, лежат вон там в комнате, так у меня своего шума довольно.
— Ну-ну, вот горе-то, а я и не знал, вы меня уж простите.
Рыжий взял Франца под руку.
— Идем, у ребе забот полон рот. Внуки у него заболели. Пошли дальше.
Но теперь Франц раздумал идти.
— Да идемте же! Францу пришлось встать.
— Не тащите меня, — сказал он шепотом. — Дайте мне еще посидеть здесь.
— Но вы же слышали, что у него в доме больные…
— Ну дайте мне здесь посидеть, пожалуйста!
Сверкающими глазами старик смотрел на незнакомого человека.
И сказал Иеремия: исцелим Вавилон. Но нельзя исцелить его. Покиньте град сей, и каждый из нас пусть вернется в свою страну, И меч да падет на халдеев, на жителей Вавилона.
— Что ж, если он будет вести себя тихо, пускай остается, и вы тоже. Но если начнет шуметь, пусть уходит.
— Хорошо, хорошо, мы не будем шуметь. Я посижу с ним, вы можете на меня положиться.
Старик молча вышел, шаркая ногами.
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ЦАННОВИЧА
И вот недавний заключенный, в желтом макинтоше, снова сидит на диване. Вздыхая и покачивая головой, рыжий ходит по комнате.
— Ну, не обижайтесь, старик погорячился. Вы, верно, приезжий?
— Да, я… был…
Красные стены тюрьмы, славные, крепкие стены камеры, он и сейчас видит их, тоскует по ним. Он словно прилип спиной к красной стене; умный человек ее строил, от нее не уйдешь. Вдруг Франц соскользнул, точно кукла, с дивана на ковер; падая, он сдвинул с места стол.
— Что? Что с вами? — крикнул рыжий. Франц извивался на ковре, шляпа покатилась из рук, он бился головой о пол, стонал:
— В землю провалиться бы, в землю поглубже, в тьму…
Рыжий тормошил его.
— Ради бога!.. Вы в чужом доме… Что старик скажет? Вставайте, слышите?
Но Франц сопротивлялся, вцепившись в ковер, и все стонал.
— Да успокойтесь, ради бога. Услышит старик, — что будет!.. Мы с вами как-нибудь уж столкуемся.
— Я отсюда не уйду!..
Зарылся в ковер, как крот в землю…
А рыжий, убедившись, что не может его поднять, покрутил пейсы, запер дверь и решительно уселся рядом с ним на полу. Обхватив руками колени и уставившись на ножки стола, он сказал:
— Ну, ладно, сидите себе на здоровье. Давайте-ка и я подсяду. Хоть оно и неудобно, но почему бы и не посидеть? Не хотите сказать, что с вами, так я сам вам что-нибудь расскажу.
Бывший заключенный кряхтел, припав головой к ковру. (Чего ты стонешь? Ну чего? Надо решить, пора выбирать дорогу. Куда идти не знаешь, Франц? Так и скажи! В старый хлев не хочешь поди! А в камере тоже только и знал, что кряхтеть да от самого себя прятаться. Думать надо было, Франц, думать!)
Рыжий сердито продолжал:
— Не надо так много воображать о себе. Надо слушать других. С чего вы взяли, что вам так уж плохо? Бог никого не оставит своею милостью, и вы не один на свете. Разве вы не читали, кого взял Ной в свой ковчег, когда случился всемирный потоп? Каждой твари по паре, — бог обо всех подумал. Вшей — и тех не забыл! Все ему были любы, все дороги.
А Франц только жалобно скулил. (Что ж, скули, за это денег не берут. Скулить может и больной щенок.) Рыжий не мешал ему, он сидел и поскребывал щеки.