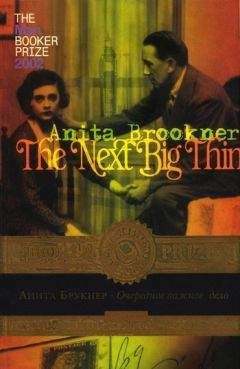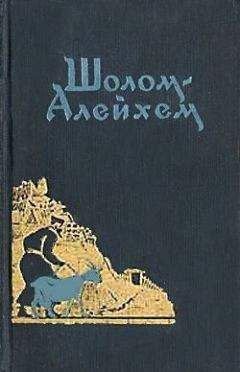Оглядываясь назад, даже тот приезд в Нион — свой единственный приезд — он считал не лишенным определенного шарма. Это касалось не оказанного ему приема, а предпринятого им шага. Ведь он был тогда еще сравнительно молод и способен принимать решения или, может быть, верил в удачу больше, чем обычно позволял себе верить. Несмотря на отказ Фанни, у него осталось ощущение авантюры, поступка, продиктованного импульсом, а это в его глазах было сродни героизму. Для них обоих этот отказ был окончательным. Он понимал, что больше никогда ее не увидит. Он писал ей, сообщая семейные новости, какие были, но она отвечала скупо. Наконец пришло письмо, где говорилось, что мать ее нездорова и что сама она выходит замуж — два логически связанных факта. Ее новый муж был немецкий бизнесмен; они познакомились в отеле, где он останавливался на отдыхе, и, как того следовало ожидать, она вместе с ним уезжает в Германию, в Бонн. У нее, судя по всему, не было никаких терзаний по поводу этого возвращения. Она была уверена в своей защищенности, все же остальное ее не волновало. Но такого уж свойства был ее шарм — полнейший эгоизм. И за этот же эгоизм ей приходилось расплачиваться. Она уже не была юной красавицей, которая льет слезы для того, чтобы ее желаниям пошли навстречу. Он не винил ее. Послал ей поздравительное письмо, и на этом переписка оборвалась. Он не знал ее нового адреса, отказался от нее символически, равно как и эмоционально. Он больше ничего о ней не знал: как ей живется, да и, собственно, жива ли она еще. Год спустя после ее последнего письма он послал для чего-то открытку по старому адресу, в «Бо Риваж». Ответом было молчание, как он и предполагал.
Возвращаясь мысленно к сегодняшнему сну, детали коего он все так же ясно видел мысленным взором, он задумался о том, что все было поправимо — а может, ему так только казалось. Ему часто снились родители, но во сне он не воспринимал их с тем усталым нетерпением, как в жизни, и мог с полным правом считать, что он худо-бедно их пережил. В этих снах он вновь становился нежным, любящим мальчиком, способным сносить постоянные жалобы матери, покорность отца, узурпаторскую надменность Фредди, с неизменной приветливой плакатной улыбкой он пытался облегчить всем жизнь. Какую гигантскую часть своей жизни он убил на эту попытку! Облегчать жизнь ему, казалось, было на роду написано, особенно облегчать жизнь Фредди, для которого он сделался едва ли не опекуном, хоть и был младшим братом. Как он восхищался Фредди и его скрипичными подвигами! Как ненавидел их задним числом! Сколько он помнил, Фредди всегда почитали за гения, главным образом родители, но он и вправду играл невероятно легко и его нетрудно было уговорить выступить. Его юный возраст и поэтическая внешность легко производили впечатление на агентов и устроителей концертов, и вскоре ангажементы Фредди стали приоритетом в их маленьком семейном кругу. Играл он хорошо — однако, ограничиваясь несложными популярными произведениями (Сарасате, Сен-Санса), снискал известность лишь как новое имя, юное дарование, чьи способности могут развиться, а могут и не развиться. Впрочем, подвели его не способности, а скорее темперамент. Он не был создан для концертной сцены, которую ему прочили родители, и заработал нервное расстройство, дрожание в правой руке, а когда его будущее лопнуло, как мыльный пузырь, внушил себе полную недееспособность, которая со временем стала неотвратимой. Все это усугубилось после переезда из Берлина в Лондон, где их отец нашел работу в музыкальном магазине; посещения больницы или пансиона отнимали все свободное время, время, которое Юлиус мог бы потратить на учебу. Но со сменой языка и учебного заведения с учебой у него так и не заладилось, и уж во всяком случае она не была приоритетом. Приоритетом был Фредди. Удивительно, почему Юлиусу никогда не приходило в голову это оспорить.
Все уже прошло, все закончилось, и он выжил. Выбираясь из кровати, Герц подумал, что и у этой медали тоже две стороны. Выжить — означает сдать времени ту свою некогда юную сущность, а время дает суровые уроки. Только те мгновения, которые удалось уберечь от времени, согревали душу, но никому не дано их выбирать. Тем не менее сон на мгновение вернул ему его самого в юности. Каким он был быстрым, каким чистосердечным! Он уже не помнил, как тогда выглядел, но знал, что обладал приветливой улыбкой уверенности, померкшей ныне с годами и опытом. Не осталось тех, кого можно было бы одарить ею, и все же временами она по-прежнему устремлялась вперед него, словно анонс его будущего взаимодействия с чем бы то ни было. Он знал, что он один, что он должен вытащить себя из постели и налить себе чашку чая, чтобы подготовиться к очередному тоскливому дню. Этот умиротворяющий ритуал не приносил никакой награды, частенько сопровождался вздохом и, хуже того, был назначен к пожизненному исполнению. Герц, хотя и был платежеспособен и, насколько это возможно в его возрасте, здоров, понимал, что его перемещения во времени и пространстве скоро закончатся, что он останется в своем маленьком доме, который он себе создал, до тех пор, пока не угаснет вдали, как он надеялся, от равнодушных глаз. Уже не тот, что прежде, но не сказать, чтобы заметно ослабевший, он по-прежнему мог убедить любого, кого это могло заинтересовать, что еще вполне жизнеспособен. Сторонний наблюдатель сказал бы, что он неплохо сохранился для пережитка. Но сердце его по-прежнему терзала боль за те зрелые годы, что прошли в заботе, годы имени родителей и Фредди. Их смерть не закалила его настолько, чтобы он был готов к собственной. Даже в самые настоящие выходные его не покидало чувство скорби, поскольку он знал, что обязательно вернется в самое средоточие скорби: к скорби своих убитых горем родителей, к скорби свиданий с Фредди — сначала в больнице, потом в частной лечебнице и наконец в том продуваемом всеми ветрами квакерском особняке, наполовину отеле, наполовину реабилитационном центре, — где он, точнее, оба они, томились до самой смерти Фредди. Ему казалось, что воспоминания об этих визитах не оставят его и в могиле. И та и другая смерть были вызваны естественными причинами, и все же от каждой веяло ужасом. Не столько смерть их, сколько жизнь вызывала сожаление, да еще вся та тщетная любовь, которая не смогла скрасить их кончину.
Даже в этом возрасте он до сих пор чувствовал боль детских ран, вечную тревогу, ставшую синонимом семьи, забота о которой лежала на нем. Ибо он был единственной жизнеспособной единицей этого маленького отряда — разобщенного, разнородного, некрепкого. Жизнь его отца состояла из сплошных навязанных ему обязательств, первейшим из которых было успокаивать свою разочарованную жену. Он уходил исполнять свои скромные обязанности продавца с облегчением человека, выпущенного из тюрьмы, а Юлиус оставался на хозяйстве, сильно упростившемся, пока новая вакансия в магазине не предложила Юлиусу такой же передышки от домашней скорби. В конечном итоге магазин стал его собственностью, когда прежний владелец, Островский, немец, вопреки своей фамилии, отправился на покой в южную Испанию. Островский был его первым и единственным благодетелем, поддерживал его, привел его в Чешский клуб, где встречались такие же, как он. Эмигранты, понял Герц со временем, образовывали подлинное сообщество. В то время он не оценил благородства чувств, с этим связанных; он зачитывался «Золотой сокровищницей» Палгрейва,[1] и эмигрантам не было места в его новой английской жизни.
Теперь, отправив самого себя на пенсию, он почти жалел, что больше не ходит в магазин, ведь тогда он мог бы занять свое место среди таких же служащих, шагая по утренним улицам. Вместо этого он купит газету, внимательно прочтет ее за завтраком, после чего снова выйдет в город — купить чего-нибудь на обед. Повар из него был никудышный; ничто не мешало ему питаться в городе, но он ощущал, что выделяется своим одиночеством, и предпочитал дома придумывать, куда отправиться потом и как провести остаток дня. Пожалуй, подойдет галерея, книжная лавочка в центре города. Это была напряженная, осторожно проживаемая жизнь. У него больше не лежала душа к путешествиям в одиночестве, чемоданы были сосланы в кладовку, в подвал. Он полюбил ночные часы, хотя спал плохо. Его родители имели обыкновение ложиться вскоре после ужина. К половине девятого их убогая квартирка умолкала. И вот теперь то молчание обрело эхо. Герц тоже рано ложился, познав отчаяние, которое побуждало к этому его родителей. В такие мгновения его привычная улыбка меркла, и так же, как это бывало много лет назад, сны были его единственной наградой, его единственным правом, полученным по рождению.
После ванны и бритья он почувствовал себя более уверенно, напомадился и надушился, что не сильно отразилось на его внешности, однако являлось неким джентльменским ритуалом, тоже своего рода фамильной чертой, оставшейся с лучших времен. В таком виде он уже мог осилить новый день; Герц дополнил ритуал чисткой пальто и ботинок и напоследок пригладил ладонью волосы. Его манила улица, иллюзия жизни, общения. В такие минуты он никому не завидовал, да он знал не так уж много людей, которым стоило бы завидовать. Одиночество воспитало в нем стоицизм, на помощь которого он надеялся. Герц похлопал по нагрудному карману, чтобы удостовериться, что таблетки на месте. Он не считал, что они чего-то стоят, но полагал, что в его возрасте все глотают таблетки. Да и молодой человек, который сейчас его пользовал, глядел на него так доверчиво, словно его собственное здоровье зависело от того, будет Герц его слушаться или нет. На этот раз даже и дождя не было. Герц подумал, что можно позвонить бывшей жене и пригласить ее на обед. Хотя расстались они без сожаления, он по-прежнему с нетерпением ждал встречи с ней и считал, что она разделяет это чувство. Развелись они полюбовно. Герц воспринимал развод как еще одно хорошее дело, которое ему удалось. Так же думала и его бывшая. Это воспоминание доставило ему мрачное удовольствие. Но странно — горечи не было. Когда он думал о ней, что случалось нечасто, его посещала улыбка. Пообедаем, подумал он, потом сходим в кино, если она будет свободна. Обретя, таким образом, цель, он пошел покупать «Таймс».