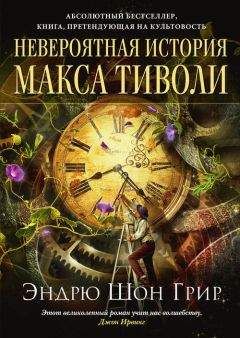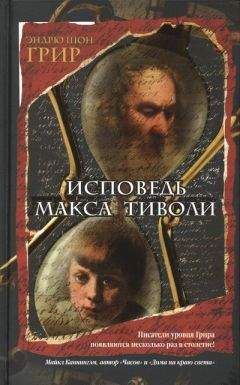Так мои родители очутились среди тысяч людей, столпившихся на Телеграф-Хилл. Дабы остаться неузнанными, они решили уединиться на заброшенной гелиографической станции. Представляю, как мама в розовом шелковом платье присела на старое кресло оператора и рукой стерла пыль с окошка. Она увидела толпы людей в черных шерстяных костюмах, все неотрывно следили за морем. Даже почувствовав на своем корсете пальцы моего папы, она продолжала смотреть на мальчишек — те бросались раковинами устриц в самые высокие цилиндры.
— Любовь моя, — прошептал отец, расстегивая пуговицы ее платья. Мама не повернулась к нему для ответного поцелуя, хотя и затрепетала от нежных прикосновений. С самого рождения она практически никогда не обнажалась и даже теплые ванны принимала в длинной ночной рубашке. Когда мой будущий отец извлек ее из платья, точно редкую устрицу из раковины, она замерзла и плакала не столько от любви — о которой шептал папа, — сколько от предстоящей потери.
В 13.28 с Алькатраса раздался предупреждающий выстрел, и точно в этот момент моя мама рассталась с девичеством. Судорожный вдох морозного воздуха, вспышка яркого света за окнами, папин шепот — бессмысленные слова, какие не одобрит ни один родитель. Мама спокойно смотрела на кривлявшихся мальчишек сквозь грязное окно. Толпа волновалась, но оживление носило скорее радостный характер. А мама… Впрочем, кто знает, что чувствуют мамы, когда впервые вверяют себя отцам?
Через некоторое время — точнее, в 14.05 (неплохо, мой юный, объятый страстью отец) — ее любовник вскрикнул в экстазе, и в тот же момент раздался дикий грохот. Справа в окне мама увидела неповторимый символ ее потерянного девичества: в морозный воздух поднялся столб воды двухсот футов в диаметре, черный как смоль. На вершине покачивались обломки взорванной Блоссом-Рок. Больше всего они походили на кулак титана, пробивший облака. Огромный и грозный. Мир, окружавший маму, заголосил так, что она едва слышала стоны своего молодого любовника. Пароходы гудели; сотни ружей палили в небо. Темная колонна погрузилась обратно в пучину, и тут же, к великому маминому изумлению, в воздух поднялась еще одна — стоны любовника вновь усилились — и обрушилась в кипящую черноту пролива, накрыв все рыбацкие лодки, вышедшие в море.
Наконец молодой человек затих и, уткнувшись в ключицу возлюбленной, пробормотал нечто восторженное.
— Да, любимый, — ответила мама и впервые взглянула на своего любовника. Тот, словно ребенок, стонал у нее на груди. Она прикоснулась к разгоряченному золоту его волос, отец замычал, сильные руки рефлекторно потянулись в разорванную пену кружевного платья. Словно переливающийся жук в ночь их первого поцелуя, отец, плененный и счастливый, лежал на мамином плече. В тот миг она слегка занервничала, вспомнив соседских девушек, которые наделали глупостей и погубили свою жизнь. Посапывание любовника недвусмысленно подсказывало ей, как мало тот думал о будущем.
И где-то среди последовавших сумбурных ласк, где-то в затихающем волнении почерневшего пролива, навеки похоронившего в темных глубинах обломки скалы, где-то в безмолвном горе стекольщиков и рыбаков, которые лишились вожделенной добычи, где-то в радостных возгласах, ружейных залпах, гудках пароходов, истерично подбрасывавшей шляпы толпе, — где-то в этой суматохе я начал свое существование.
И все-таки главный вопрос заключается вот в чем: только ли безумный взрыв Блоссом-Рок заставил мои клетки развиваться в обратном направлении? Неужели мою маму так напугал взрыв или печальные мысли о собственном будущем, что она исказила мое зарождающееся существо? Звучит нелепо, и тем не менее мама до конца жизни терзалась, что заплатила за любовь такую цену.
Мама говорила, что в утро моего рождения повивальная бабка укутала меня во фланелевую пеленку и прошептала:
— Тебе стоит избавиться от мальчугана, доктор говорит, он чуток уродлив.
Красотой я и впрямь не блистал. Морщинистый, дрожащий от паралича, хлопающий слепыми мутными глазами… Уверен, когда я завопил, мама ужаснулась. Наверное, даже взвизгнула. Однако в сторонке, скрестив на груди руки, стоял мой отец; попыхивая вечной «Свит кэпоралс», он смотрел на меня без всякого ужаса. Отец приблизился, прищурился через пенс не и увидел мифическое создание, которое помнил по сказкам родной Дании.
— Ух ты! — радостно воскликнул он, затягиваясь сигарой, пока напуганная мама смотрела, как повивальная бабка качает меня на руках. — Он вылитый гном!
— Эсгар…
— Просто копия гнома! Ему повезло, дорогая. — Отец наклонился и поцеловал мамин лоб, а затем и мой, хранящий мнимый отпечаток десятилетних тревог. Папа улыбнулся жене и строго заявил бабке:
— Он — наш, мы его не бросим.
Ложь, мне вовсе не повезло. Он просто сказал, что я похож на маленьких старичков, которые обитают под землей в датской глуши. Я похож на гнома. Я — уродец. Разве нет?
От меня пахло не так, как от других детей. Мама говорила, что заметила это, когда кормила меня грудью, и хотя она никогда не ругалась и всегда мыла мои перепачканные руки, словно нежнейшую кожу младенца, мой запах — чудесный, если верить маме, — нисколько не походил на запах детей, которых ей довелось держать на руках. Он скорее напоминал аромат книги — затхлый, приятный и все же неправильный. Пропорции моего тела также были необычны: тощий торс и маленькая голова, длинные руки и ноги, а в придачу на удивление острый нос, который наверняка послужил причиной как минимум одного приглушенного вскрика в родильной комнате. Спросите любого, и он вам скажет, что дети появляются на свет с крошечными носиками; я же обладал более чем приличным носом. И подбородком. И лицом, терявшимся в складках слоновьей кожи, придерживаемой парой пуговиц — мутных слепых глаз, полных печали.
— Что это с ним, а? — с неизменным каролинским акцентом прошептала бабушка. Облаченная в черное шелковое платье и вуаль, она навсегда врезалась в мою память.
Доктор опробовал на мне все инструменты, что были в его чемоданчике: кожаную трубку, дабы слушать сердце, лекарства вроде касторки, слабительного, каломели, пластыри, и тем не менее вышел из комнаты, недоуменно покачивая головой.
— Пока не ясно, Лиона, — вздохнул он.
— Королевское проклятие? — ахнула она, подумав о монголизме.
Взмахом руки доктор обозначил смехотворность подобной мысли.
— У мальчика носорогость, — авторитетно заявил врач. Вероятно, он придумал эту болезнь на ходу, однако бабушка отнеслась к диагнозу со всей серьезностью и явно собиралась молиться о моем выздоровлении.
Со временем я уже мог выдавать себя (при газовом освещении) за человека лет пятидесяти, хотя на самом деле мне было всего семнадцать. Однако в первые годы моей жизни еще не было понятно, кем я был и каким мог стать. Так можно ли винить несчастную Мэри, мою служанку, которая сквозь слезы бормотала свои ирландские молитвы, по три раза в день купая меня в сливках, вымачивая словно кусок соленой трески? Разве можно винить маму и бабушку за особые приготовления ко дню посещений — ко второй и четвертой пятнице каждого месяца, — когда, в страхе перед гостями, они мазали мамину грудь слабой настойкой опия, после чего кормили меня столь нежно и одурманивающе, что я безмолвно лежал наверху в наркотическом сне, тогда как они сидели на диванах в длинных полосатых юбках? На мой взгляд, это наилучший комплимент из всех: я не походил ни на что увиденное ими среди вязов, богатых каменных домов и кружевных зонтиков их христианского конфедеративного мира.
Шли годы, я менялся, как и все обычные дети. Просто оказалось, что мое тело растет в обратную сторону: молодеет с каждым днем. В младенчестве я напоминал глубокого старика, однако вскоре уже выглядел как шестидесятилетний мужчина с красивыми седыми волосами, прядь которых мама отрезала для своего альбома. И все же я был не стариком, я был ребенком. Молодела только моя внешность. Похожий на гнома из сказки, в душе был самым обыкновенным мальчишкой — так же как сейчас, в бриджах и кепке, я произвожу впечатление мальчика, а на самом деле ничем не отличаюсь от любого раскаивающегося старика.
Мои записи могут попасть к докторам, потому постараюсь выражаться точнее. Изменения физической внешности происходят в обратном привычному порядке. Удивительно, что мой истинный возраст и возраст, на который я выгляжу, вместе всегда составляют семьдесят. То есть когда мне было двадцать, со мной как с ровесником флиртовали пятидесятилетние дамы, а когда наконец исполнилось пятьдесят, ко мне начали приставать молоденькие девушки. Старый в юности, я превратился в юного старика. Не стану приводить здесь собственные предположения, это ваша сфера, дорогие доктора будущего. Расскажу лишь о своей жизни.
Меня можно назвать диковинкой. Я исследовал все, что накопила мировая медицина за несколько веков своего существования, и обнаружил всего несколько случаев, похожих на мой. Увы, похожих не полностью.