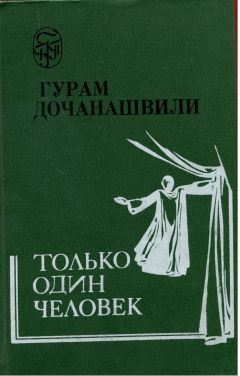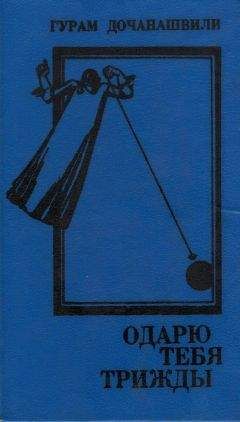А второй ребенок...
В общем-то, он даже не помнил, где и когда видел этого второго ребенка, да и было ли это в действительности, на самом деле. Но с другой стороны, все так реально, так явственно ему представлялось, и потом — можно ли выдумать невиденное лицо... Да и одежду он помнил во всех подробностях... Средь бескрайней равнины, с удивительным равнодушием застланной пухлой снежной пеленой, едва различалась выцветшая, облупленная платформа; была глухая, темная ночь. Поезд запаздывал, он стоял где-то далеко с занесенными снегом крышами, тускло мерцая во всю свою длину окнами и почтительно уставившись своим единственным горящим во лбу огромным глазом на две строго светящиеся точки в двадцати шагах впереди. Этого поезда там, на маленькой платформе, дожидались люди. Пассажиры расположились на пяти обшарпанных коричневых скамьях, зажав между ног тщательно увязанные сумки; на чьем-то совершенно новом чемодане расстелили газету и играли в домино. В углу кучей был навален каменный уголь, посверкивающий, когда горящая печка пыхала сквозь дырочки светом, но в помещении все равно было холодно. Один из пассажиров, видимо, куда-то запаздывал — он беспокойно метался по залу ожидания; остальные, исключая тех четырех игроков в домино, пребывали в безмятежном спокойствии. Трое из игроков яростно стучали черными костяшками, а четвертый, наверное хозяин чемодана, выкладывал костяшки чинно и аккуратно. На скамье, стоявшей посреди комнаты, дрыхал какой-то пьянчуга. Он только нет-нет, вдруг вылупив глаза, удивленно озирался, потом вспоминал, где находится, и, причмокнув губами, снова засыпал. Кроме тех четырех игроков и беспокойно маячившего человека, все сидели, замерев в неподвижности и безмолвии. Луку раздражала такая покорность; он терпел-терпел, потом направился к скамьям, стал перед ними, широко расставив ноги, и сказал сердито: «Поезд запаздывает!» Несколько человек подняли на него глаза, не проронив, однако, в ответ ни слова, а затем вновь уставились в какие-то свои, облюбованные точки и понемногу замерли. Обозленный Лука скрестил руки на груди и вызывающе смерил по очереди всех сидящих взглядом. У стены, на скамейке, сидел тот второй ребенок... Ощутив некоторую неловкость, Лука вернулся на середину комнаты и сквозь вонючий махорочный дым умильно уставился на девчушку лет десяти, которая сидела, свесив со скамейки ноги и едва доставая кончиками пальцев до заледеневшего асфальтового пола. Какое-то несказанное тепло исходило от этого простенького с виду ребенка. Голова и плечи девочки были туго повязаны такой знакомой-презнакомой серой грубошерстной шалью, совсем простой, кусачей, зато очень теплой. Невероятно большими, слезящимися от дыма глазами девочка неотрывно глядела на свои валенки; перекрещенные концы шали были связаны крепким узлом у нее на пояснице, а две голые по локоть, худенькие — но, боже милостивый, какие до невероятности худенькие, прямо просвечивающие — ручки она скрестила на груди, положив на плечи длинные прозрачные пальцы. Личико у девочки было бледное, очень бледное, но это, казалось, ее только красило. Рядом с ней дремал ее отец, крепкий коренастый мужчина с грубыми чертами лица. Лука смотрел на девочку как завороженный. Она по-прежнему сидела смирно и тихо, однако в ней чувствовалась внутренняя взволнованность; наконец, она не выдержала и взглянула своими большими голубыми глазами на Луку. И Лука мгновенно все понял: в воображении девочки он предстал каким-то невообразимо дерзким бунтарем, который осмелился нарушить привычное, устоявшееся спокойствие. Девочка восхищенно смотрела на Луку, перепоясанного широким ремнем и в пальто нараспашку, и на лице ее невыразимо прелестным клеймом запечатлелось некое подобие улыбки, все еще таившей в себе примесь грусти. Лука улыбнулся ей, и ему вдруг стало стыдно своих скрещенных на груди рук. Он тотчас же их опустил, потом достал из кармана сигарету и чиркнул спичкой. Девочка тоже убрала пальцы с плеч и положила их на колени. Лука зажег сигарету, не переставая глядеть на девочку. Теперь она улыбалась ему от полноты души, безмерно счастливая и совершенно преображенная его бунтом. В комнате по-прежнему раздавался стук костяшек домино, тихо и равномерно гудела печка. Лука с наслаждением затянулся сигаретой, когда отец девочки, до сих пор деревеневший в дреме, вдруг смачно, во весь рот зевнул, извлек откуда-то хлебную лепешку, разломил ее надвое и, откусив кусок, вторую половину протянул ей. Она вздрогнула от неожиданности и с таким испугом посмотрела на отца, что у Луки от жалости защемило сердце. Мужчина резким движением указал девочке на хлеб, она обеими руками приняла краюху и нехотя надкусила, после чего вновь замерла с поникшей головой; и долго еще после этого, по прошествии многих лет, Лука средь веселого смеха вдруг ощущал внезапно тревожное беспокойство — ему вспоминалась та милая, до боли душевной покорная девочка-ребенок с тоненькими, прозрачными руками и крошками хлеба на подоле, вспоминалось ее бледное-бледное личико и простая грубошерстная шаль, связанная похожим на соты узором. И еще вспоминались ему большие-пребольшие голубые глаза.
* * *
С самого же начала, когда Лука еще только-только принялся за свое дело, его стал тревожить вопрос — «Для кого?», хотя, правда, он и знал, что далеко не всех этот вопрос беспокоит. Совсем иначе, например, обстояло дело с тем замечательным молодым человеком, встреченным Лукою однажды в маленьком, глядящем на Мегрелию и на Сванетию, пограничном селе,— который, поднявшись на ноги во время небольшого торжественного застолья, сказал: «Я весьма благодарен за то, что вы почтили тостом мою работу...» — и, подумав немного, тихо добавил: «Это и впрямь хорошее дело. Гэс — это свет, тепло, дорога...» И он был совершенно прав. Его дело было одинаково благим для всех, как и еще целая уйма всевозможных дел и занятий, каковы, допустим, медицина, геология, строительство, мелиорация и многое, многое другое, но это дело, дело Луки... Лука знал, что в мире столько самых разношерстных читателей, сколько и грамотных людей, и что, кроме хороших читателей, существуют всеядные читаки, которые глотают все без разбору и все им почти одинаково нравится; есть еще читатели, которые только тогда удосуживаются взять в руки книгу, когда по городу о ней разнесется молва; затем читатели, которые сначала заглядывают в последнюю страницу, а уж потом, преисполненные пренебрежения к автору, с важным видом принимаются за книгу; читатели, которым не под силу понять произведение, и они, чтоб скрыть свою немочь, да к тому же, чтоб не отстать от других, начинают петь с чужого голоса, будь то хвала или хула, а то еще, бывает, прикрывшись тогой нигилизма, заявляют, что им вообще ничего не нравится; читатели, которые систематически прочитывают по полстранички на ночь, чтобы поскорее уснуть; читатели, которые читают только произведения, написанные родственниками, товарищами или соседями, — это, кстати сказать, удивительно странный народ; читатели, которые, чтоб скоротать время, утыкаются носом в книгу в автобусах и трамваях и, едва различая от тряски строки, то и дело поглядывают в окно; начинающие читатели-подростки, которые отыскивают в книге только интимные сцены и пикантные места и перечитывают их по стольку раз, что этого времени хватило бы на книгу в пять раз большего объема; далее — пренеприятнейшая категория читателей из числа тех, что с довольным видом объявляют: «Да это же не книга, а одна прелесть, за ней просто отдыхаешь! Вот уж действительно то, что надо...» Для читателей подобного рода литература тождественна дарящему блаженное отдохновение гамаку; у всех у них, независимо от здоровья, почему-то румяные щеки, и все они очень любят Марка Твена, Ильфа и Петрова, О. Генри... и, наконец, та, самая ужасная категория читателей, для которых тем хуже, чем больше они начитаются книг.
Но когда порой, измотанный, издерганный, с разнывшейся от усталости поясницей, но все равно жаждущий дела, Лука ненадолго откидывался на спинку стула и, потянувшись до хруста всем телом, вдруг внезапно расслаблялся, встревоженный вопросом: — «Для кого?», и ему, заново переполошенному, вместе со многими самыми разнообразными людьми, даже раньше всех, а потом еще и после всех других, вспомнились те два ребенка, то, вновь обретя твердую веру, он мог с закрытыми глазами сказать, что дело его — стоящее.
* * *
На углу, подле гастронома, стоял Маленький хулиган. Прищурив глаза и важно вскинув вверх одну бровь, он с видом явного превосходства слушал какого-то бледнолицего паренька, старательно пересказывавшего ему какую-то только что происшедшую историю. Лука сидел у окна автобуса, который подолгу здесь задерживался, собирая пассажиров. Отступив назад, бледнолицый паренек показал Маленькому хулигану какое-то расстояние от стены, размахнулся кулаком и схватился за живот, чем возбудил некоторое удивление своего слушателя; затем, покачав головой, сунул одну руку в карман, а другой рукой стремительно перехватил ее в запястье и сжал, словно клещами, при этом сам весь перекрутившись. Теперь Маленький хулиган слушал его с более живым интересом, сдвинув сигарету к уголку рта, чтоб дым не ел глаза. Паренек, завершив свой рассказ, выжидательно на него уставился, и тогда он, с неизменно присущей ему важностью, солидно высказал свое суждение по поводу услышанной новости и, судя по всему, очень довольный собой, сбив щелчком с сигареты пепел, горделиво огляделся по сторонам, но вдруг так и замер в оцепенении: из автобусного окна на него смотрел, помирая со смеху, Лука. Маленький хулиган, раскрыв было рот от растерянности, порывисто обернулся, но никого за спиной не увидел и понял, что это именно над ним так весело потешался Лука. Сконфуженный, совершенно обескураженный, он растерянно поглядел вслед автобусу, но, только Лука скрылся из глаз, обернулся к бледному пареньку и, мгновенно снова став самим собой, смерил его уничтожающим взглядом, а пока тот силился в тревоге понять свою вину, Маленький хулиган со свирепым видом обмотал себе платком руку и нервозно притопнул пару раз по асфальту. Лука и сам провел годы и годы, заполненные столь непростительными глупостями и грубейшими ошибками, что ему и вспоминать обо всем этом было тошно, да, впрочем, он уже почти ничего и не помнил, потому что те дни как две капли воды походили друг на друга и при одном воспоминании о них в нос ударяло запахом прокисшего вина; не помнил он уже и того, что за странная, необоримая сила заставила его, в ту пору совсем еще ребенка, совершить одну поразительную вещь: ему было восемь лет, когда он как-то раз, облюбовав одну из беспорядочно валявшихся во дворе бочек, забрался в нее, извлек из кармана зеленый карандаш, бережно расправил на коленях скомканный клочок бумаги и там, в бочке, скрючившись, нацарапал свое первое стихотворение, после чего так возгордился собой, что забыл обо всем на свете и все ему стало трын-трава. А дни шли, дни опасные и безопасные, зимние и летние, одинаково короткие и одинаково длинные, а когда он ужасно устал, когда все ему невыносимо осточертело, тогда пришли великие, настоящие писатели, которые умели до донышка заглядывать в человеческую душу и беззастенчиво шарить руками по самым чувствительным струнам тела... они могли схватить клиента за шиворот и повести его, куда им только заблагорассудится; еще они могли одаривать царскими милостями, но и обдать холодной водой тоже ой как еще умели; у каждого из них была своя собственная страна, заполненная вещами и населенная людьми, которую было не унести никакому потоку времени: у одного Испания с ее долгими ухабистыми дорогами, по которым стареющий инвалид заставил своего отпрыска, многострадального идальго, то скакать на лошади, то медленно вышагивать на своих на двоих; у другого — огромный, серый и туманный Петербург; у третьего — Ирландия, которую порой так бессовестно засыпало густым и пушистым снегом. Потерявший голову, вконец ошалевший Лука, который теперь очень редко когда выходил на улицу, с почтительным вниманием, застенчиво приглядывался к людям — он понял им цену и узнал их значение, — а потом снова читал и читал; читать было хорошо... порой его заливало солнцем, и он пересаживался тогда в затененный угол комнаты; порой шел дождь, иногда — снег, а то налетал порывами ветер, но, бывало, наступала и такая тишь, что листок на дереве не шелохнулся, а Лука держал в руках целые миры, населенные живыми, совершенно живыми и очень, очень близкими людьми, четко обрисованными в строках и словно вылепленными вкруг подвижных каркасов; миры, подаренные ему разумом и десницей действительно великих людей и созданные зажатыми между пальцами ручкой или гусиным пером; постигал истории, с которыми никакое «истинное происшествие» не сравнится, ибо это была художественная правда жизни, самая величайшая и самая победоносная правда, а на улице, пока он читал, какой-то похабник непристойно громко, во всю мочь горланил: «Эво, Мария...»