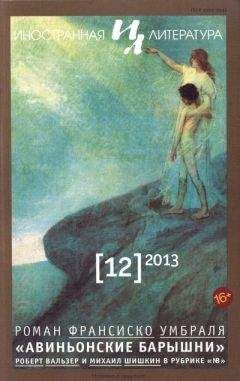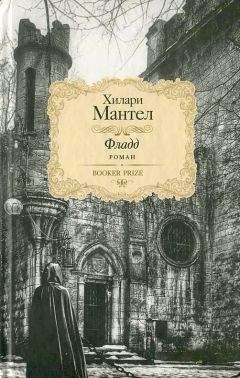В ясном утреннем свете ты выходишь на кухню и роняешь невзначай:
— А вы знаете, там, за кладбищем, есть дом богачей? У них там всякие оранжереи…
В это время на кухне была тетя. Она сыпала в тарелку кукурузные хлопья, подбирая со стола упавшие мимо. Тетя с мамой переглянулись, усмехнувшись уголком рта: они явно что-то скрывали.
— Она имеет в виду Хэтэуэев, — шепнула мама и прибавила чуть ли не умоляюще: — Не надо об этом говорить, тем более при ребенке: это и без того большое несчастье.
— Какое несчастье? — спросила я, а мама вспыхнула как газовый рожок:
— Значит, ты была возле этого дома? Я надеюсь, не в компании Мэри Джоплин? Имей в виду, узнаю, что ты играешь с Мэри, — живьем кожу сдеру. Даю тебе честное слово.
— Нет, я была там одна, без Мэри, — соврала я легко и непринужденно, — Мэри болеет.
— А что с ней?
— Лишай! — выпалила я первое, что пришло на ум.
Тетя прыснула.
— Чесотка, гниды, вши, блохи, — с наслаждением перечисляла тетя эти милые создания, — ничего удивительного. Я бы скорее удивилась, если бы Шейла Джоплин смогла хоть раз удержать дома эту замарашку. Хотя дома у них не лучше, живут как звери в норе. У них даже постельного белья нет, представляешь?
— Но звери хоть иногда вылезают из нор, — сказала мама, — а Джоплины нет, и их становится все больше и больше — целый табор в одном доме! Оттого они все время и дерутся как свиньи.
— А разве свиньи дерутся? — спросила я.
Но мама с тетей меня не слушали: они уже вспоминали одно происшествие, случившееся еще до моего рождения. Однажды какая-то женщина пожалела Шейлу Джоплин и подала ей кастрюлю с тушеным мясом, а Шейла, вместо того чтобы просто сказать «спасибо, не надо», взяла и плюнула в эту кастрюлю.
Тетя рассказывала об этом, словно в первый раз и словно все произошло вчера. Ее побагровевшее лицо живо воспроизвело всю боль этой доброй женщины с кастрюлей.
Мораль этой притчи торжественно вывела мама, словно под умирающий глас последней трубы:
— Вот как она оскорбила эту добрую женщину и испортила еду, которая могла бы насытить других бедных!
Аминь. На этой патетической ноте я выскользнула из кухни и выбежала на улицу.
И тут же передо мной, словно я нажала на кнопку, появилась Мэри. Она стояла посреди улицы, глазела на небо и ждала меня.
— Ты позавтракала? — спросила она.
— Нет.
Спрашивать об этом саму Мэри вообще не имело смысла.
— А мне дали денег на конфеты, — сказала я.
Если бы не эта история про Шейлу Джоплин и кастрюлю с мясом, то потом, когда я уже подросла, я могла бы подумать, что Мэри была всего лишь плодом моей детской фантазии. Но об этой кастрюле до сих пор рассказывают у нас в деревне и смеются: со временем этот случай уже перестал казаться таким гадким. Благословенно время, осыпающее нас волшебной пыльцой милосердия.
В то утро, перед тем как убежать с Мэри, я еще раз заглянула на кухню и сказала:
— А Мэри еще хуже: ее покусали мухи и отложили в ней личинки.
Тетя взвыла от смеха.
Наступил август — не менее жаркий, чем июль. Пустые, праздные камины, дорожный асфальт — чуть ли не расплавленный, клейкие ленты, облепленные мухами, в окне магазинчика на углу. Каждый вечер где-то вдали раздаются раскаты грома. «Вот-вот прольется, завтра-то точно», — говорит мама так, словно небо — это чашка с водой, нависшая над нами. Но небо и не думает проливаться ни завтра, ни послезавтра. Ниже по улице вечно слышна шумная возня голубей, взбесившихся от жары. «От чая прохладнее», — повторяют, как заклинание, мама с тетей, и, хотя это утверждение весьма спорно, они поглощают чай литрами в слабой надежде обрести прохладу. «Это мое единственное удовольствие!» — говорит мама. И они лежат, распластавшись в плетеных креслах, вытянув босые белые ноги, и держат сигареты как-то по-мужски, зажав в кулаке, так что сквозь пальцы просачивается дым. Никто не замечает, когда ты приходишь и уходишь. Тебя ничем не кормят, разве что дают деньги на мороженое и леденцы: холодильник уже дышит на ладан.
Я не помню, где именно мы с Мэри Джоплин бродили в то лето, но, как мы ни петляли, а каждый вечер, в пять, оказывались возле дома Хэтэуэев. Я помню ощущение прохлады, когда я прислонялась лбом к каменной ограде, перед тем как перелезть в сад. Я помню песок и мелкие камешки в сандалиях, я их вытряхивала, но очень скоро забивались новые и щекотали мне пятки. Я помню то странное ощущение от кустов, где мы прятались: словно пальцы в кожаных перчатках нежно ощупывали мое лицо. А голос Мэри вечно жужжал у меня в ушах: «папа говорит то», «мама говорит это»… А в сумерки, да-да, в сумерки, на закате, должна была показаться эта самая запятая, и Мэри клялась, что это человек.
В то лето я совсем не могла читать: стоило мне раскрыть книгу, как буквы расплывались перед глазами. Душой я была в лугах, передо мной все вставал образ Мэри — эта ухмылка на немытом лице, рубашка, что то и дело задиралась до груди, обнажая выступающие ребра в синяках. Мне казалось, что она вся состоит из теней, то откроет неприличные части тела, то спешит даже руки прикрыть, боится прикосновений, сердито дергается, если коснешься ее локтем. Ее разговор упорно вертелся вокруг твоей будущей неизбежной участи: как тебя будут колотить, пороть, колесовать. А я могла думать только об одном: о запятой, которую Мэри все обещала мне показать. Я заранее обдумывала, что скажу взрослым, если кто-нибудь увидит, как я бегаю по полям возле дома Хэтэуэев. Я скажу так: «Я занималась пунктуацией. Да, занималась пунктуацией, искала запятую. Но одна, без Мэри Джоплин».
В тот вечер я, наверно, довольно долго просидела в кустах, тихо подремывая, как вдруг Мэри толкнула меня локтем. Я вздрогнула, вскочила на ноги, во рту пересохло, я чуть не закричала, но Мэри закрыла мне рот рукой и прошептала: «Смотри!»
Солнце уже близилось к закату, стало не так жарко. А в доме, за высокими окнами-дверями, зажгли свет. Вдруг одна из дверей открылась — сначала одна створка, потом другая. Мы напряженно смотрели внутрь, что-то медленно катилось на улицу: это было инвалидное кресло на колесах, его толкала какая-то дама. Кресло легко и свободно скользило по каменным плитам, и в нем лежало что-то темное, завернутое в покрывало. Но мое внимание больше привлекала дама: ее шуршащее цветастое платье, ее изящно завитые волосы, ее запах — хотя мы были слишком далеко, я была уверена, что пахнет одеколоном. Свет люстры, зажженной в доме, словно следовал по пятам за этой женщиной, его блики игриво плясали вокруг нее на террасе. Губы шевелились, она улыбалась и говорила что-то неподвижному свертку, который лежал в кресле. Вот она остановилась и, тщательно выбрав место (очевидно, давно ей знакомое), поставила туда кресло. Она огляделась вокруг, подставив щеку мягкому вечернему свету, а потом наклонилась, чтобы еще укутать голову свертка в какое-то новое покрывало, или замотать новый платок. И это в такую-то жару?
— Вишь ты, как пеленает! — шепнула мне Мэри.
Я видела. И видела лицо Мэри, завистливое и растерянное одновременно.
А женщина, в последний раз приласкав сверток, повернулась и направилась к дому. Мы ясно слышали стук каблучков о каменную плитку на террасе, перед тем как она вошла в стеклянную дверь и растворилась в свете люстры.
— Ну-ка посмотрим, что там! Подпрыгни! — торопила я Мэри, которая была выше ростом.
Она подпрыгнула раз, другой, третий, каждый раз неуклюже бухаясь на землю и тихонько кряхтя. Нам хотелось узнать, что происходит в доме, но увы. Мэри устало опустилась на корточки. Мы решили довольствоваться тем, что было у нас перед глазами, и принялись вглядываться в сверток, лежащий в кресле. Его туловище подергивалось под одеялом. А голова, укутанная платками, была непомерно велика и свисала набок. Мэри права, и впрямь запятая: туловище закорючкой, а голова внаклонку.
— Мэри, крикни ему что-нибудь, — сказала я.
— Не могу, — ответила Мэри.
И тогда я сама, под покровом кустарника, взяла и гавкнула по-собачьи. Я видела, как свисающая голова повернулась, но лицо я разглядеть не успела: буквально через секунду шторы на террасе колыхнулись, и из-за папоротников, росших в роскошных китайских вазах, показалась женщина в цветастом платье.
Заслонив глаза от солнечного света, она посмотрела прямо в нашу сторону, но нас не увидела. Потом наклонилась над свертком-коконом и что-то ласково ему сказала. Взглянула на заходящее солнце, как бы оценивая, под каким углом падают лучи, а затем отступила чуть назад, держа руки на подлокотниках кресла и с осторожной нежностью, слегка покачивая, повернула его и чуть отклонила назад под таким углом, чтобы подставить лицо запятой последнему теплу. Склонившись над этим лицом и что-то нашептывая, она сняла с него платок.
И мы увидели — пустоту. Точнее — нечто, еще не ставшее лицом. Позднее, вспоминая об этом, я подумала, что, пожалуй, это можно назвать эскизом лица или даже «протоколом о намерении», первоначальным наброском, что был у Бога, когда он только приступал к созданию человека. Просто окружность, без черт и без всякого выражения: круглый и гладкий череп, обтянутый кожей.