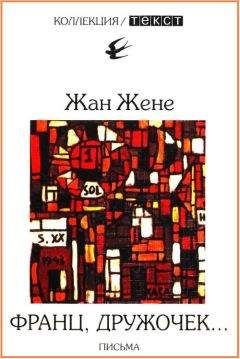С того дня мы стали встречаться. Мы бродили по тротуарам и в спорах оттачивали свои суждения, а потому я процитировал однажды строчку из революционной песни, от которой получила название ночь мюнхенского погрома: «Точите ваши ножи о край тротуара!» «Прекрасно сказано!» — воскликнул он. Десять лет спустя, когда мы встречались уже только от случая к случаю, я стоял на том самом месте, где состоялся этот разговор, и ждал, когда загорится зеленый свет; вдруг кто-то ладонями закрыл мне глаза и резким голосом преподавателя спросил: «Известно ли, кто самый великий поэт?» — «Да, — ответил я. — Это не Жене, это Гомер». — «Гомер», — подтвердил он. Наши реплики, отточенные на тротуарах, были достойны «Илиады».
Человек с таким обостренным чувством поэзии не мог ограничиться строчками, подобными тем, что журналист в Латинском квартале записал за колоритным бездельником. В конце года мне передали просьбу Жене зайти к нему в номер около полудня — ему надо было кое-что мне показать.
Это был «Смертник»… Стихи совсем иного рода! Ценность этой поэмы для меня заключается прежде всего в том, что в наступившем тогда литературном похолодании от нее дохнуло новизной. Уже многие месяцы и годы поэзия подпитывалась только мелочными уловками, почерпнутыми из вольностей Аполлинера. Поэма Жене была полна жизни, как старинная картинка; чуть нескладная по слогу, восходящему к учению Малерба, она была исполнена неслыханной трагической нежности — это был единственный шедевр за четыре года подпольной литературы.
Затем последовала «совершенная», как сказал Жан Кокто, проза, а потом Жене дал нам читать роман, где преступление возведено в поэзию так, как он не смог этого сделать ни в одной из позднейших поэм.
Весь остаток зимы, чуть ли не ежедневно, тот из нас, кто вставал первым, заходил за другим, и мы шли вместе обедать. Весной Жене отправился в путешествие, вернулся, совершил кражу, угодил в тюрьму, вышел на волю, снова сел и снова вышел… Так появились публикуемые здесь письма.
Франсуа СантенФранц, дружочек…
(Письма, 1943–1944)
Плевал я на литературу, особенно на Литературу с большой буквы.
Прочь, прочь! Пришли мне сигарет.
Пришли пожалуйста, бумагу!
Жан
РОЛАНУ ЛАУДЕНБАХУ
10 февраля 1943 (почтовый штемпель).
Письмо по пневматической почте
Ролану Лауденбаху, улица Франсуа Милле, 12, Париж (16).
Дорогой друг Ролан Лауденбах, я был бы очень рад вас видеть. Я просил Жана Тюрле, чтобы он попытался уговорить вас найти небольшую роль для молодого человека, о котором я говорил. Но опасаюсь, что он (Тюрле) сделает это недостаточно горячо. Потому хочу вступиться за юношу сам. Мне сказали, что вас колют от незнамо какой заразы. Сочувствую. Принесу вам апельсины, если найду на рынке. Про «Нож в сердце»[6] я не забыл (но это плод иного рода). На обороте открытки я начеркал стишок об одном молодом боксере, которого я звал «Жо-Златогласый» и который в 230-й камере не раз просыпался в моих объятьях.
Не забудьте про юношу. Это не один из моих дружков. Это замечательный <?>[7] парень, сами увидите.
Жму руку.
Жан Жене
Если вдруг, как знать, пожелаете мне ответить, я зовусь Жан Сене (не Ж, а С), отель «Биссон», набережная Гранз-Огюстен. Не забудьте. Сене.
* * *
Приносим благодарность семье Ролана Лауденбаха, разрешившей нам опубликовать это письмо и приводимое ниже стихотворение.
СПЯЩИЙ БОКСЕР
Пурпурная скала упала в простыни,
Цветок златоголосый, мускулистый,
Его объяли сон и папоротник мглистый,
Рукой пастушьей стерегущий наши дни.
О парус траурный, гонимый ветром сказки…
Вот-вот проснется он! — О пчел небесных горн,
Смежи скорей глаза боксера тихой лаской,
Плоть потную цветка верни в глубокий сон.
Пускай еще поспит. Я подоткну пеленки
И ангелов спугну с гнезда на крыльях тонких.
И пусть, когда очнется он, в цветочной новизне
Оплачут смерть мою торжественно и звонко
Клубки и кольца змей на робкой белизне.
И пусть твоя слеза падет на руку мне,
Твоя слеза мой друг, мой нежный Златоглас,
Из выклеванных хищной жадной птицей глаз,
Хватавшей как во сне, мой славный балагур,
Тут глаз, а там зерно, которым кормят кур.
Четыре дня спустя, в воскресенье 14 февраля, Ролан Лауденбах и Жан Тюрле приведут Жене к Кокто на улицу Монпансье, а затем он прочитает это стихотворение Жану Кокто и Кристиану Берару в ресторане «Отель дю Лувр». 15 февраля Кокто запишет:
«Наконец увидел Жана Жене, его привел Лауденбах. Поначалу он, видимо, считал, что я над ним смеюсь. Этот парень живет от тюрьмы до тюрьмы и тюрьмой отмечен. Лицо параноика, обаятельно скован, но легко переходит к раскованности. Глаза невероятно быстрые и лукавые. Я набросал его портрет, который он унес с собой. Я повел его с Бераром обедать в „Отель дю Лувр“ <…> Понемногу он освоился и прочитал нам свое новое стихотворение „Спящий боксер“. Там есть такие замечательные строчки, что мы с Бераром расхохотались. На этот раз он прекрасно понял, что мы над ним не насмехаемся и что наше веселье вызвано радостным удивлением.
Этот поразительный чудак источает изящество, равновесие, мудрость. Его стихи для меня самое значительное событие последнего времени. Кроме того, эротизм служит им надежной защитой (от публикаций), их можно читать только тайком и передавать из рук в руки.
Он сказал, что самое страшное для него — увидеть свое имя в газете».
(Дневник, 1942–1945 гг.)
«Спящий боксер» войдет (с незначительными изменениями) в сборник «Стихотворения», подготовленный Жене в 1948 году, и станет последней частью цикла «Парад», начинающегося пятью строфами из того самого стихотворения, которое Жене пошлет Францу 21 июля 1943 года (см. письмо 23). К «Боксеру» там добавлено две строфы:
Синеют две ступни в сплетенье звезд и веток,
Вор, словно на ладонь, бежит на берег мой,
Твой смех любовью мне пронзает сердце метко,
Посмей ее попрать жестокою ногой!
Очнешься от меня и убежишь поспешно.
Ступеньки лестницы, что клавиши зубов.
Ах, Ги, чтоб пустоту заполнить жизни грешной,
Помножь собой любовь на бесконечность снов.
И, если топчешь ты меня, сними сапог.
Мы видим, что в стихотворение прокрался «вор», подобно тому, как грабитель Ги по каменной тюремной лестнице (см. письмо от 19 июня 1943[8]) прокрался в жизнь Жене и занял в ней место «боксера», который исчез даже из названия стихотворения, для него, впрочем, незавидного, поскольку «спящий боксер» — это боксер в нокауте.
Что касается Жо-Златогласого, упомянутого в письме и в стихотворении, Жене нарекает таким прозвищем и обитателя централа Фонтевро в «Чуде о розе». Это один из геральдических символов в мифологии Жене. В Меттре «на руке у каждого из нас красовался цветочек — анютины глазки, но если блатные из Фонтевро посвящали его матери, то мы обвивали его лентой с надписью „Златоглас“. То было знаком посвящения в этот бесцельный орден». (Мы позволим себе несколько сократить фразу Жене.) «Чтобы цветок и лента покоились в достойном орнаментальном обрамлении, мы покрывали татуировками все тело». — «Я видел на татуировках Орла, Фрегат, Якорь, Змею, Цветок, Звезды, Луну и Солнце. Некоторые были разрисованы по шею и выше. Эти изображения украшали торсы нового рыцарства» («Чудо о розе»).
1
23 февраля 1943 (почтовый штемпель). Открытка от Жана Жене, отель «Биссон», набережная Гранз-Огюстен, Париж, Ф. Сантену, площадь Комедии, 1, Монпелье, Од (sic).
Прими, дружок, самый что ни на есть дружеский привет от всех коктовцев. Поклонись от меня ребеночку Рейнолдса[9], а я от твоего имени поцелую А[10] в оба глаза, Жан Жене.
2
11 мая 1943. Первая открытка из Вильфранша-сюр-Мер. На открытке изображена площадь Амели-Полоне и отель «Белкам», где Жене отметил свою комнату крестиком.
(Крестиком отмечено мое окно и мой балкон.)
Старик, дорогой. Пришлось уехать по-скорому, не повидавшись с тобой.
У моей консьержки в «Отель де Сюэд» ты найдешь книги. Сделай с ними, что следует. 1000 франков возьми себе, остальные сохрани, я их у тебя потом попрошу. (Продолжение на второй открытке.)
3
Вторая открытка, отправленная вместе с первой: «Лодки, украшенные цветами на фоне Цитадели»; адресована также Франсуа Сантену, улица Сент-Андре-дез-Ар, 49, Париж, 6.