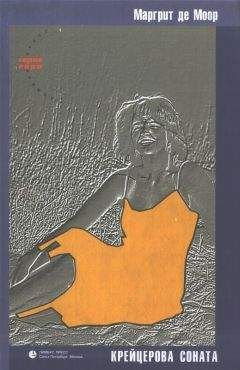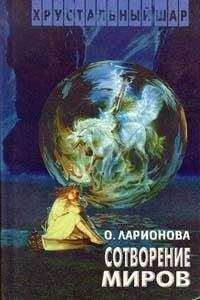Мы добрались до горящего красными буквами бара “Чарли”, Ван Влоотен передвигался тяжелой походкой, как раненый великан, — таким, я знал, он мне и запомнится. Я заметил слева от стойки бара свободный столик, над которым висело зеркало. Мой приятель покорно положил руку на мое плечо и двинулся за мной к стульям, на которых, как я чувствовал, нам предстояло провести немало времени. Мы приступили к первой порции виски. И тогда же услышали первое сообщение из громкоговорителя прямо у нас над головой, — о том, что рейс в Бордо снова на неопределенное время откладывается. Когда я слишком пристально стал приглядываться к его лбу и понял, что столкновение с препятствием было далеко не безобидным, Ван Влоотен это заметил.
Он недобро усмехнулся:
— Что ж, любуйтесь себе на здоровье моей глупостью!
Я почувствовал, что заливаюсь краской.
— Простите.
Я отвел взгляд от шишки, красовавшейся над его правой бровью. Вскоре наш разговор коснулся другой глупости, совершенной им намного раньше, но я так и не мог заставить себя не смотреть на беловатую впадину над его левым ухом ближе к затылку, которую, впрочем, можно было увидеть только в зеркало.
— Так вы уверены, что хотите об этом знать?
Она была на три года его старше. Студентка факультета антропологии, почти окончившая курс, — “Да уж, эта девушка — ее звали Инес — была решительна”, — уже после второго или третьего свидания она заявила ему, что отношения их могут быть разве что временными, поскольку в ее планы входит сразу же после защиты диплома начать работу над диссертацией, причем местность, в которой, как ей представлялось, это будет происходить — высокогорные области на востоке Венесуэлы, где живет индейская народность яномама — уже давно укрепилась в ее воображении как некая ее сугубо личная реальность. “Думать об Инес, — сказал мне Ван Влоотен, — это значит ее видеть”, — и начал описывать окно.
Арочное окно, рамы выкрашены светло-голубым, за окном — зимний городской парк. На черной ветке сидит неподвижная птица, вся белая, как снег, а на подоконнике Инес нервно роется в сумке, потому что ей кажется, что она забыла ключ от дома. Она с минуты на минуту готова уйти. Он наивно спрашивает: “Может быть, он у тебя в кармане пальто?” — не осознавая значения разворачивающейся перед ним сцены ухода. Она вскакивает с подоконника и обшаривает всю комнату. Это большая роскошная комната в особняке, принадлежащем студенческому корпусу, на канале Рапенбюрг в Лейдене. Массивные бордовые кресла с потертой обивкой, рядом стол, накрытый желтой клеенкой, вот такая обстановка — но ему было тогда всего двадцать два. На кровати возле стены с деревянными резными панелями он провел со своей любовницей ночь, там же они позавтракали, потом в неудобной позе, опираясь на локти, читали свежий номер газеты, ее он незадолго до этого поднял с коврика перед дверью, спустился на два лестничных пролета вниз в халате и в тапочках, не понимая того, что его девушка, оставшаяся наверху, имеет на жизнь свои собственные планы. Сейчас она смотрела на него так, словно он никогда не покрывал ее с ног до головы поцелуями. Она нашла свое пальто, выудила из кармана ключ, протяжно зевнула. Не прошло и пяти секунд, как со словами: “Ну ладно, пока!” она исчезла.
Он изучал право, да, именно так — осваивал специальность своих отца и деда, одного из которых она привела на должность министра, а второго во времена правления Юлианы сделала обер-шталмейстером. Мариус был талантливым ребенком, выросшим в роскоши. Пойдя по стопам своих родителей, имевших кучу друзей-иностранцев и много путешествовавших по свету, он свободно владел тремя иностранными языками и чувствовал себя как дома в театрах и концертных залах Лондона, Парижа, Вены и Берлина. Ни он, ни его родители не сомневались в том, что он станет великим человеком. Верный своему абстрактному предназначению и вопреки всем скрытым в нем талантам, он поступил на факультет права, разумеется, в Лейдене, что казалось ему разумным, необходимым и отчасти мистическим долгом. Целых два года он проучился там, не ломая себе голову над вопросом “зачем”. И вот однажды зимним утром после пирушки он вдруг открыл центр своего существования. После долгих блужданий в тумане Инес предложила ему кофе и омлет со шпигом. Студенческое общежитие стояло на окраине. Окна выходили на пастбища. Лифт завораживающе медленно полз на последний этаж… В тот же день, вернувшись через несколько часов домой, он сел за накрытый клеенкой стол, заправил в пишущую машинку лист бумаги и напечатал: “Мир — это…”
С тех пор он стал нуждаться в ее лице, ее взгляде, жестах, в ее походке, манере оборачиваться, он испытывал острую потребность видеть ее фигуру в красном плаще за самым дальним столиком в шумном кафе о встрече, в котором они условились. Она была с ним нежна. То, что он проглядел другую, туго натянутую в ней струну, оказался слеп к приметам ее отъезда, объяснялось его желанием. С которым он, как ему казалось, умел справляться, когда оставался один. Когда он бывал один, он считал, что не об Инес думает, а просто переписывает, вглядываясь в аккуратный почерк друга и все основательно сокращая, лекцию о принципах принудительного и регулирующего права. Но стоило ему только в условленный час услышать, как открылась и гулко хлопнула тяжелая входная дверь особняка — у Инес был свой ключ — и ее решительные шаги, вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, как снова не оставалось в мире ничего иного, ничего более умиротворяющего, чем его желание, разгоравшееся с каждым днем все жарче, при том что виделись они практически ежедневно, доводившее его чуть ли не до нервного срыва, и — что, вероятно, больше всего сбивало его с толку, — Инес всегда с готовностью разделяла его страсть.
— Представьте себе на пороге явление — женщина, только что примчавшаяся на велосипеде, из-за холода до того закутанная с головы до ног, что кажется завешанной до предела вешалкой.
Ван Влоотен вдруг замолчал.
— И что дальше? — нетерпеливо спросил я.
— Погодите.
Гул голосов вокруг нас тоже постепенно смолк. Затем в громкоговорителе у нас над головой раздалось шипение, и я заметил, что все сидящие в баре, к тому времени уже почти заполнившемся, с серьезными, внимательными лицами прислушиваются к сообщению, касающемуся многих. Впрочем, мы уже заранее покорились судьбе. Рейс на Бордо в очередной раз откладывался.
Официант принес нам еще по порции виски. Мы пригубили из своих рюмок и продолжали молчать. Я был уверен, что Ван Влоотен, так же, как и я, чувствует пульс опасности, о которой только и было разговоров за соседними столиками. Я встретился взглядом с каким-то мужчиной, складывавшим газету “Морген”. Он тут же поднялся с места, словно я обратился к нему с некоей просьбой, но, подойдя к нашему столику, вдруг почему-то опустил руку на рукав моего спутника.
— Не развернулось посадочное шасси, — сказал он Ван Влоотену, — но я знаю, что пилот попытался вторично завести мотор.
После чего он, не дожидаясь наших комментариев, скрылся с газетой под мышкой за раздвижными дверями.
Когда Ван Влоотен продолжил свой рассказ, я ощутил беспокойство. Я знал, чем он закончится. Я предчувствовал мрачный финал, приближающийся буквально с каждым его словом, и одновременно понимал, что, словно некий свершившийся факт, он уже висит в воздухе. Она начала опаздывать. Не затрудняя себя оправданиями, все чаще отменяла встречи. Это было летом, по выходным она приезжала к нему домой в Вассенаар. Случалось порой, они безмятежно сидели с родителями воскресным полднем, поджидая ее, на ступеньках веранды — тени от каштанов ползли в сторону загонов для скота, и спешить в принципе было некуда. Вдруг раздавался телефонный звонок. И как все это его уже тогда не насторожило?
Я не ответил. Не задал ни одного вопроса. Но до сих пор помню свое неприятное ощущение в ту минуту, когда лицо сидевшего напротив меня собеседника вдруг напряглось, как это свойственно слепым, пытающимся вспомнить забытую привычку и воспроизвести некое подобие улыбки. Сам я в ответ не улыбнулся. Он продолжал: так было потому, что Инес по-прежнему с ним спала, потому что она горячо и с огромным воодушевлением разделяла его страсть.
Его голос стал насмешливым. “А что это значило в те времена, об этом вы, нынешние, и понятия не имеете!”
Он наполовину обернулся и щелкнул пальцами. Немедленно явился официант: “Что желаете?”, но Ван Влоотен лишь уперся двумя пальцами в стол и принялся объяснять дальше: “В те времена женщина не ложилась так поспешно в постель с мужчиной. Женщины были более гордыми и осторожными. Отдаться мужчине — так даже самые легкомысленные из них называли свою уступчивость — это кое-что значило, и даже самые легкомысленные признавали глубоко скрытый внутри их естества закон, говорящий о том, что каждый организм в первую очередь стремится к воспроизведению и усовершенствованию своих качеств, короче говоря, женщина знала, что может забеременеть. Да-да, страсть в те времена приравнивалась к выбору партнера для продолжения рода, так я и сам это понимал. И не сомневался, что эта красивая женщина подарит мне пятерых детей!”