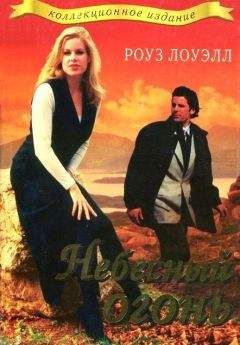Я узнаю палату, в которую меня ввозят. Холодный безнадежный свет, голые, сероватые стены, картина, на которой изображен горный пейзаж. Печальная пустота.
— В этой палате умерла Аня, — говорю я.
— В больнице много таких палат, — объясняет врач.
В меня втыкают иголки, присоединяют их к шлангам, аппараты начинают ворчать и попискивать. У врача бесчувственные глаза. Габриель Холст кладет руку мне на лоб. Его пальцы пахнут табаком.
— Я не имею права утверждать, что ты собирался сделать глупость. Ты свободный человек. Но сейчас ты здесь.
— А что, собственно, случилось?
— Я поймал тебя на блесну.
— Разве я не слишком тяжел для блесны?
— Конечно, тяжел. Но у меня хороший спиннинг для ловли в пресной воде, удилище от Абу, самое лучшее, стекловолокно. Леска 0,25. Отличная катушка. Вот она, блесна «Меппс».
Он достает блесну из кармана и показывает мне. Блесна черная с желтыми точками.
— Хочешь взять ее на память?
— Нет, спасибо.
— Она спасла тебе жизнь.
— Почему леска не оборвалась?
— С моим снаряжением я теоретически могу вытащить рыбу, которая будет весить двадцать килограммов, хотя оно рассчитано только на три.
— Я вешу восемьдесят.
— Но ты не оказывал сопротивления. Просто лежал в воде. Ты был без сознания.
— Я чувствовал боль во рту.
— Наверное, это было до того, как ты потерял сознание. Конечно, я боялся, что леска не выдержит, ведь течение там очень сильное. Но мне удалось перетащить тебя в тихую заводь. Ты не шевелился, и я был уверен, что ты мертв. Можешь представить себе, каково это — выловить труп молодого человека, когда пришел ловить форель?
— Почему ты был на моем концерте?
— Хотелось послушать Прокофьева. У этого человека не все в порядке с головой.
— Ты музыкант?
Он пожимает плечами.
— Да, в некотором роде. Но не для больших залов. Я играю на контрабасе. Лежа. Ведь когда мы говорим об инструменте с такими формами, мы имеем в виду женщину.
— Дай мне все-таки эту блесну, — прошу я.
Сутки спустя. Первые сутки почти стерлись из моей памяти, я помню только тяжелые тягучие сны и ощущение, что тональности разного цвета прыгают у меня в голове, как бейсбольные мячи. Я бегаю с сачком и не могу поймать ни одну из них.
Врача шведско-норвежского происхождения зовут Гудвин Сеффле, он очень внимателен и говорит на напористом диалекте Сконе. Мы сидим в его кабинете. Он энергично потирает сухие руки, и я вижу, что он обкусывает ногти. Кроме того, он всегда спешит, ведя вечную борьбу за каждое койко-место.
— С чего ты хочешь начать?
— Вы меня вызвали, вам и решать.
— Не надо все осложнять, — просит он глухим голосом. — Тебя привезли в больницу полуживым. Когда человеку в легкие попала вода, речь идет уже о секундах. К тому же вода в реке очень холодная. Тот, кто вытащил тебя на берег, говорит, что даже не заметил тебя в воде. Он только почувствовал, что на крючок что-то попалось.
Я трогаю языком рану во рту и киваю.
— Сумасшедшее решение, — говорит он, читая свои бумаги.
— Не такое уж сумасшедшее. Мне хотелось уйти за ними.
— Объяснить можно все.
— Меня выпишут сегодня?
— Сначала ты должен рассказать нам, о чем ты думаешь. Наш проклятый врачебный долг обязывает нас понять, что представляют собой наши пациенты.
— Кто сказал, что я ваш пациент?
— Тот, кто прислал тебя в мой кабинет.
— Что я должен сказать?
— То, что позволит нам создать более ясную картину того, что ты сейчас собой представляешь.
— Марианне сказала, что я напоминаю ей героя песни «The Only Living Boy In New York» Тогда я не понял, что она имела в виду. Но когда она умерла, я все понял. Покончив с собой, она убила нас обоих.
— Это опасная мысль.
— Ничего не поделаешь.
Я замечаю, что мне трудно говорить. У меня пересохло во рту. Я не могу произносить согласные.
— Я читал в газетах о твоем дебюте, — вдруг говорит Гудвин Сеффле. Он ерзает на стуле, явно испытывая неловкость.
— Правда?
— Отзывы были восторженные. — Он как будто сообщает мне великую новость. — Я по возможности слежу за тем, что происходит в мире музыки. Сам играю. Не меньше сорока пяти минут каждый день. В этом году я должен одолеть «Порыв» Шумана. Трудное произведение, ты не находишь?
Я киваю.
— Довольно трудное. Но замечательное. Только смотрите, не играйте его слишком быстро.
— Ты так считаешь? — Он наклоняется ко мне через стол. — Это важно?
— Да, особенно когда играешь Шумана, — говорю я. — Если играть Шумана слишком быстро, пропадет горячность, неистовство. Останется только суматошность.
— Господи! А ведь верно. Вот мнение эксперта. Ты даешь уроки?
— Нет.
— Мне нужен учитель музыки.
— Их много. При случае я назову вам несколько имен.
— Это было бы прекрасно.
— Но за это вы должны выпустить меня отсюда. В четверг будут похороны Марианне. Мне нужно еще многое уладить до того дня.
Он кивает:
— Посмотрим. До поры до времени решение покончить с собой является частным делом человека. Но как только он оказывается в руках врачей, все меняется. Общество хочет, чтобы все жили как можно дольше. Смерть слишком важна, чтобы решение о ней можно было доверить какой бы то ни было личности.
— Я не хочу умирать, — говорю я.
Гудвин Сеффле наклоняется над столом:
— Вот и убеди меня в этом.
Два следующих дня и две ночи слились для меня в одно целое. Все время меня окружают люди. Смотрят на меня. Говорят обо мне. Дают мне таблетки. Лишь на короткое время они оставляют меня одного. Тогда я вижу Марианне висящей в кладовой дома Скууга. И меня одолевает чувство вины. Сеффле прав. Почему я не выбрал веревку? Или бритву? Или таблетки? Должно быть, Марианне была твердо уверена, что поступает правильно. А я ничего не понимал, окутанный туманом своего предстоящего дебюта. Как долго после того, как петля затянулась, ребенок в ней был еще жив? Я лежу в своей палате и слышу, как за стеной кто-то кричит.
Некоторых из пациентов я встречаю в курилке. Нас стерегут санитары. Стерегут, но не донимают. Теперь я один из них. Один из тех, кто не такой, как все. Теперь я отношусь к тем, кто это сделал. Или попытался сделать. В углу девушка курит самокрутки, как курила Марианне. На ней розовая майка с короткими рукавами. Запястья рук забинтованы. Но есть следы порезов и в других местах — на шее и вдоль вены на левой руке. В какую бы сторону она ни смотрела, нас она просто не видит.
Толстый маменькин сынок двадцати лет, с прямыми грязными волосами, в синем блейзере и черных грязных брюках курит сигареты с фильтром. Перед ним раскрытая книга. Уильям Голдинг. «Повелитель мух». Если он и читает, то не дольше двух-трех минут, потом поднимает глаза и, прищурившись, смотрит на одну и ту же картину Кристиана Крога — на ней обветренный рыбак ищет что-то, чего мы не видим.
— Здорово он писал, — повторяет парень снова и снова.
Еще там сидит усталый мускулистый мужчина, покрытый татуировками, время от времени он пытается завязать разговор о погоде с кем-нибудь из надзирателей — я, во всяком случае, воспринимаю этих людей как надзирателей. Сейчас за нами надзирает молодая женщина, в ее взгляде есть что-то мягкое, беззащитное, кажется, что она вот-вот снимет свой белый халат и закурит вместе с нами.
Я курю «Пэлл Мэлл» с фильтром, правда, я его отламываю — так меня научила Марианне. Я смотрю на пациентов и думаю, что все мы, кто курит и курил в этом месте до нас, хотели бы докуриться до смерти, стать такими же легкими и невидимыми, как дым в курилке, такими же свободными, способными выкурить себя из своей оболочки и обстоятельств, которые привели нас сюда. Мы сидим здесь и курим. Возможно, мой случай — самый тяжелый из всех. И тем не менее я здесь всего лишь гость.
Время от времени я подхожу к большому окну с видом на детскую площадку. Там у лесенки плачет маленькая девочка. Никто из взрослых ее не видит. Я пытаюсь открыть окно, но оно не открывается. В руках у девочки лопатка. Мальчишки кидались в нее песком. Сейчас они снова подошли к ней с ведерками, полными песка. Сколько же ей может быть лет? — думаю я. Как она воспринимает то, что сейчас происходит? Думает ли о маме и папе? Боится? Я понимаю, что так думать опасно. Я не должен плакать. Должен отстраниться от этого. И отстраниться навсегда. Не думать о том, что какое-то время я был отцом. Ничего не чувствовать. Не тосковать по тому, чего я никогда не видел и не увижу.
Что это, сон? Или В. Гуде действительно пришел навестить меня? В легком летнем костюме, клетчатой шотландской шляпе, с трубкой в зубах. Он смачно целует меня в щеку, словно я его родной сын.