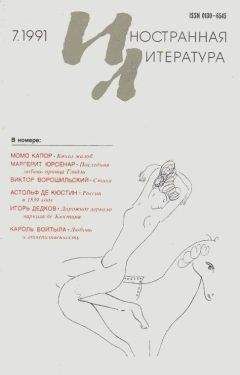2
Кто сегодня помнит Педжу Лукача тех давних дней, когда его ещё не поглотила балканская полутьма книжного магазина «Балканы» на улице Королевы Анны? В минуты безысходной тоски, когда, накачавшись алкоголем, переполняемый чувством вины, я забываю, кем был и кем мог бы стать, я достаю с пыльного шкафа картонную коробку из-под ботинок, в которой храню комплект «Дела»[2] (1958, 1959 и 1960 годы). Тут мои ранние эссе о живописи — бренные останки бесплодной души, доказательства бесполезности утонченного вкуса… Здесь же толстая папка с вырезками, фотографиями и заметками, последняя неудачная попытка сохранить хоть немного самоуважения и убедить самого себя, что не просто прозябаю обыкновенным книготорговцем, а работаю над чем-то серьёзным, с дальним прицелом. Какой самообман! Кого я хочу обхитрить? Годами собираю материалы, расспрашиваю оставшихся в живых свидетелей, на которых мне случается натолкнуться, листаю книги и монографии, делаю записи на пачках сигарет и спичечных коробках… Все это якобы нужно мне для объемистого исследования об Эрихе Шломовиче, таинственном коллекционере и его загадочном собрании французской живописи. Сколько раз мне ночью (за стаканом белого вина, разумеется) казалось, будто я на пороге чего-то большого и значительного, что наконец оправдает мою бессмысленную, полную ошибок жизнь; я уже составлял в уме подробнейший план всей книги, видел даже репродукции в ней, шрифт, сноски, ширину полей — вcё! — на радостях напивался и предавался грезам вплоть до утра, неизменно лишавшего меня иллюзий и отрезвлявшего холодной логикой. Тогда я с отвращением отталкивал досье Шломовича, казавшееся мне теперь беспорядочным набором газетных вырезок, имен, мест и дат. Знаю наверняка: никогда мне не удастся собрать их в единое целое и расположить в какой-то логической последовательности. Всё же эта папка — воплощение моих болезненных амбиций — служит мне своего рода оправданием для бесконечных мечтаний, оправданием того, что я всё чего-то жду, что никак не соберусь закончить наконец свою работу (ведь мне ещё не всё известно о Шломовиче, хотя я уже знаю больше других!), она служит мне извинением того, что я всё больше пью, и одновременно возвышает в глазах тех, кто прослышал, будто я занят каким-то исключительно трудным и сложным исследованием. Правда, я несколько раз пытался бросить пить (одному Богу известно, какая это для меня жертва!), чтобы начать наконец писать, но стоило сесть за машинку, как у меня сразу опускались руки от осознания масштаба стоящей предо мной задачи. И вино вновь принимало меня в свои цепкие объятия! Дело, видимо, в том, что, обладая вкусом и образованием, я при этом начисто лишён способности что-либо написать! Следовало развивать эту способность параллельно и гармонично, чего я в свое время не сделал. Ну да ладно! В конце концов я прочитал по крайней мере сотню романов о тех, кто пишет книги, и ни одного о тех, кто их продает!
Я там, где я есть. Временами, открывая глаза, чтобы на часок-другой сбежать из своего фильма, я погружаюсь в созерцание картины за окном с её постоянно меняющимися сюжетами. Стекла магазина чуть затемнённые, и все, проходящие мимо, не в силах побороть искушение полюбоваться собой; разглядывают своё лицо и одежду, поправляют непослушный локон или узел галстука, самовлюблённо созерцают свое отражение, оценивающе прищуриваются; женщины проводят кончиком языка по губам, отрабатывают какой-то новый обольстительный бросаемый искоса взгляд, не зная, что я за ними наблюдаю. Сколько неуверенности в себе вперемешку с тщеславием! Ну-ка, как я выгляжу? Разве я не привлекательна? Когда я так смотрю на них, скрытый блеском витрины, остающийся невидимым до тех пор, пока они не подходят к витрине вплотную, весь мир за стеклом кажется мне огромным дурацким аквариумом, где диковинные человекоподобные рыбы суетятся, охотятся, гоняются друг за другом, пожирают друг друга, размножаются… С другой стороны, я для них, наверное, являю собой нечто вроде бледной книжной медузы, дремлющей в море печатной продукции. Мне, однако, приятнее чувствовать себя снаружи аквариума, чем внутри.
На Здоровьичко приходит забрать пустые чашки.
— Как поживаем? — спрашивает.
— Ужасно! — отвечаю.
— На здоровьичко! На здоровьичко! — говорит он и, приxрамывая, идет к себе через улицу.
Я — сова. Ночь — моё время. Мне нужно сделать над собой огромное усилие, чтобы вступить в новый день. Порой утро вызывает во мне такое отвращение, что я, кажется, готов выблевать все внутренности в унитаз. Кое-кто утверждает, будто это от выпитого накануне и от чрезмерной дозы никотина, но я-то знаю, от чего — от утра! Чтобы окончательно проснуться, мне необходимы две-три чашки чёрного кофе. Несколько сигарет. Рюмка чего-нибудь крепкого: водки или ракии. Тогда я кое-как доползаю до умывальника и заставляю себя побриться. Господи, неужели это моё лицо? Оно бы должно было быть костистым, с наткнутой кожей на выступающих скулах, но вино сделало его дряблым. Чищу зубы, изо всех сил сдерживая новый приступ тошноты. Зубы? В ужасающем состоянии! Протезист мне уже ни к чему, тут может помочь один Господь Бог. Кошмар! Умывание: сколько бы я ни мылся, тело непрестанно покрывается холодным липким потом и дрожит мелкой дрожью, вызываемой угрызениями совести, тяжелым похмельем, чувством вины и боязнью конца… Мне бы сейчас побегать по какому-нибудь парку или по набережной вдоль реки, поделать приседания, чтобы освободиться от токсинов, разогнать кровь в жилах, почувствовать себя сильным и бодрым… Я спросил как-то одного доктора, автора книги «Бег трусцой», что здоровее: бегать или трахаться? «Любовь для организма гораздо полезнее! — ответил он невозмутимо. — У вас тогда работают все мышцы, укрепляются нервы, улучшается кровообращение… — Так почему же тогда люди не трахаются вместо того, чтобы бегать, высунув язык? — А потому, — ответил он спокойно, — что любовь организовать несравненно труднее, чем бег. Для бега ведь не нужно ничего, кроме хороших кроссовок. А для любви нужны, как минимум, двое!» Однако вчера не было никакого траханья. Один раздрызг. Да, раздрызг! Это самое точное слово. Чистя на кухне свои старые черные мокасины, пытаюсь смонтировать в голове обрывочные кадры вчерашних событии. Что сказал я, что говорили они? Я стараюсь уловить в этой куче перепутанной кинопленки хоть какую-нибудь логическую последовательность. Зачем я вообще туда ходил? Ну-ка, ну-ка? Лёг я в три ночи, а встал в семь с таким ощущением, что опять молол нечто непотребное. Небось наговорил кому-нибудь гадостей? Или разнюнился? Был любезнее, чем нужно? Может быть, изливал душу кому-нибудь незнакомому, кто потом использует это против меня же? Жаловался, что меня бросила Лена? Напускал на себя важность? Демонстрировал свою образованность? Навязывался кому-то, сносившему это с вежливым терпением? Что-то обещал? Объяснялся в любви? Дал повод для насмешек? Кто знает, что там ещё было? Нет, нет, мне действительно нельзя никуда выходить по вечерам! Лучше всего сидеть у себя на кухне. Если уж мне так необходимо пить, буду пить за своим столом. Я люблю эту ночную картину: клеенка в красную и белую клетку, сигареты, спички, пепельница, газета, стакан вина. Ночь. Сижу. Смотрю в стол. Существую. Молчу… Вот так бы мне и стареть себе, не совершая нелепых ошибок. Но какой-то бес меня всё время толкает принимать даже самые сумасбродные приглашении, общаться с людьми, и вот после двух-трёх бокалов меня на какое-то время охватывает блаженная радость от сознания своей принадлежности к великому человеческому братству; естественно, сразу же подставляюсь, чего делать никак нельзя, и вообще тормоза у меня отказывают, всё вдруг становится возможным, все ко мне благожелательны и все меня обожают, вот и эта прекрасная незнакомка слушает меня с восхищением, и я смело трогаю под столом ее круглое колено… Меня уже просто несёт, хоть я и знаю, что потом наступит раскаяние. Вот о чём я думаю, пока чищу старые мокасины.
Чистка ботинок для меня такой же ритуал, как для монахов утренняя молитва. (И они, и я при этом стоим на коленях.) Обнаруживаю на мокасинах две капли воска. Стало быть, там вчера горели свечи! Усердно втираю черный крем в потрескавшуюся благородную кожу, а затем мягкими щётками навожу глянец. Потом, когда любой дилетант решил 6ы, что больше уже ничего сделать нельзя, я надеваю мокасины и с помощью бархотки медового цвета добиваюсь последнего, немыслимого блеска, какого редко достигают даже профессиональные чистильщики. Эта утренняя чистка ботинок для меня нечто гораздо большее, чем простой уход за обувью. Это внесение определенного порядка в хаос, в котором я живу, расстановка раскиданных вещей по своим местам. Только после этого я могу сказать: «Пусть будет день! Я готов».