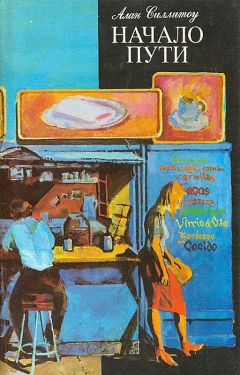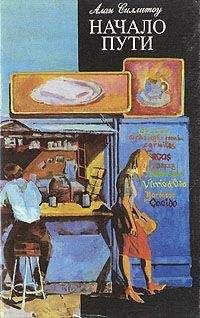Школа была настоящим мученьем; каждое утро мать спозаранку приводила меня к запертым воротам и уходила — в восемь у нее начинался рабочий день. Она давала мне монету в три пенса, и, когда на другой стороне улицы открывалась лавчонка, я не спеша направлялся туда и покупал пакетик леденцов, а потом, прислонясь к школьной ограде, сосал их, и во рту оставался вкус меда.
Если ребята спрашивали, кем работает мой отец, я говорил: отца у меня нет, его убили на войне, — и, кто его знает, может, так оно и было. Но даже в пять-шесть лет мне казалось, мать не вышла замуж, потому что для любого мужчины я помеха, и меня это не слишком огорчало — я привык к такой жизни и радовался, что мать всецело принадлежит мне. Иногда она сплавляла меня к бабушке в Бистон, а сама отправлялась в Блэкпул или в Лондон, но я только радовался нежданному празднику — ведь в эти дни не надо было ходить в школу.
Дед казался мне лучше всех мужчин на свете, хотя, когда он не ходил на работу и оставался дома, он иной раз выпивал лишку пива, становился злой, раздражительный и называл меня ублюдком — по моему тогдашнему разумению это означало: мальчишка, чья мать не может найти себе мужа.
Как-то раз я подобрал на школьном дворе несколько мраморных шариков, и один мальчишка обозвал меня паршивым ублюдком. Я побоялся, как бы он не разболтал мою тайну, и здорово ему наподдал, и уж тогда ни у кого не осталось никаких сомнений, что я и вправду ублюдок. Я не больно расстроился — ведь доказательств-то ни у кого не было, зато подружился с несколькими мальчишками, которых, я чувствовал, постигла та же судьба.
Один из них, Элфи Ботсфорд, жил на Нортон-стрит, и у него не было отца. Мать его, толстуха в очках, работала на сигаретной фабрике. Долгое время я так и представлял: она сидит на скамье и весь день напролет скручивает и набивает сигареты с помощью особой машины, а другие женщины укладывают их в пачки для продажи. Элфи, ее единственный сын, в свободное от школы время больше всего на свете любил играть в камешки на мостовой. А уж если не играл сам с собой в камешки, так наверняка уписывал хлеб с патокой. По-моему, ничего другого он сроду не ел. Когда я заходил к нему после школы, его мать и меня угощала хлебом с патокой, и я уплетал все за обе щеки — моя мать возвращалась с работы только через час, а в пустой дом мне идти было незачем. Миссис Ботсфорд угощала меня и чаем, таким крепким, что от него несло йодом. Но я не привередлив и выпивал его до дна, а по ночам от ужасного этого угощенья меня мучили кошмары и я терпел адские муки.
В школе меня мало чему учили — только читать да писать. Учителя загнали меня на заднюю парту и забыли о моем существовании. Но им назло, а может из желания понравиться, по чтению и по письму я успевал хорошо. Однако меня все равно держали на задней парте, теперь уже потому, что не в пример тупицам, которые и этому-то не могли научиться, я, как видно, не требовал особого внимания. Примерно в эту пору — мне тогда было семь — мать с бабушкой пронюхали, что поблизости есть брошенный жильцами дом. Кто-то, не желая платить за квартиру, сбежал ночью в Бирмингем и все имущество, которое не поместилось в фургон, бросил на произвол судьбы. И вот однажды средь бела дня мать протиснулась в окно кухни, а нас с бабушкой впустила через дверь. Тут мало чем можно было поживиться, разве что кой-какими ложками да плошками, но в общей комнате на полу разбросаны были большущие нотные тетради. Они валялись повсюду, и, завороженный причудливыми нотными значками, я принялся их листать. Они глядели на меня черные и четкие — восьмушки, четверти, половинки, слова, которым я уже научился в школе, и я водил по ним пальцами, словно то был шрифт Брайля для слепых. Две такие тетради я взял под мышку и унес и очень ими гордился, и хотя потом они куда-то запропастились, строки беззвучной музыки еще многие годы являлись мне в беспокойных снах, виной которым был крепкий чай миссис Ботсфорд.
В Бистоне у меня был приятель, Билли Кинг, семья его жила в подвале на Риджент-стрит. Среди моих друзей он был единственным в своем роде — за целый год знакомства он не задал мне ни одного вопроса, ни разу не спросил даже: как, по-твоему, сколько времени или — есть хочешь? Меня это ничуть не огорчало — ведь на мне лежало несмываемое пятно, которое надо было скрывать, и в этом смысле молчаливость его была мне как раз на руку. Но когда с вечным своим неуемным любопытством я начинал сам задавать ему вопросы, тут уж я огорчался — в ответ от него только и можно было услышать: не твое дело или — кто не спрашивает, тому не врут, а если он был хорошо настроен, оттого, скажем, что ему удалось разжиться отцовской сигареткой, он вообще ничего не говорил и, поглубже засунув руки в карманы, дымил себе и дымил с важным видом. Приходилось ждать, когда ему самому вздумается заговорить, и уж тогда слова его давали в моем воображении пышные всходы, точно семена, брошенные в трехлетний пар, и всякая малость, которая приключалась с ним, вырастала в целое событие. Я упоминаю об этом потому, что отсюда, наверно, берет начало мое умение внимательно слушать и воздерживаться от вопросов, которые попадали бы в самую точку. Человек всегда расскажет больше, если ему самому пришла охота излить душу, и я любил слушать — все равно правду или выдумки, не оттого, что больше нечего было делать и нечего порассказать самому, — просто я доверчив и добродушен, и людям приятно поведать мне про свои злоключения, а когда явно врут и хвастают, слушаешь с увлечением и неважно, что там мораль не на высоте, лишь бы меня самого при этом не надували.
Но как же все-таки я мог быть прирожденным слушателем, если бабушка у меня ирландка? Вообще-то она много чего порассказала мне про наших предков, но далеко не все эти истории я мог повторить в том нежном возрасте и даже позже. А так она больше хохотала, да покрикивала, да изредка грозила мужу, когда, перебрав спиртного, он не мог работать в саду, или рявкала на дочь, если та подкидывала ей меня на целых три недели. Но деда и бабушку я любил даже больше, чем если бы они были моими родителями: их ведь было двое, а мать — одна. И вот доказательство моей любви к ним: когда мать оставляла меня дома, а сама уходила с кем-нибудь из приятелей посидеть в пивной, и мне приходилось ложиться спать одному, я не ревел и не огорчался. Но если, пока я жил у деда с бабушкой, они шли прогуляться перед сном или опрокинуть по стаканчику, я ревел и по-настоящему трусил. Если летним вечером, когда в окно заглядывал прощальный солнечный луч, я был один, мне казалось: вот-вот настанет конец света. Я был не маменькин сынок, но бабушкин и дедушкин, и уж если различать детей по каким-то признакам, так отчего бы и не по этому?
Заходя за Билли Кингом, я никогда не спускался в подвал, просто кричал через решетку, через стальные прутья под ногами. Тогда Билли сразу выбегал на улицу. В семье было еще двое детей, и родители его сняли этот подвал на условиях, что они лишь поставят здесь мебель, пока мистер Кинг не подыщет квартиру. Но так как со старой квартиры их выгнали, а новой не было, семья ютилась в этих выбеленных известкой, неуютных стенах. Однажды Билли вышел на улицу весь черный и в синяках: угольщик по старой памяти поднял решетку и ссыпал добрый центнер утля в подвал, прямо на кровать, где спали дети, хорошо еще, они сбились в кучу под тряпьем, не то головам их несдобровать бы под нежданной лавиной.
Зима запомнилась мне как самое плохое время; мы с Билли построили вокруг дедушкиного дерева иглу, уплетали там шоколад и пирожные, которые таскали из лавчонок, и в дыру, заменявшую окно, посматривали на ворота — а вдруг за нами гонятся? Ноги у нас были мокрые — мы стояли коленками на снегу и на холодной земле, зато у нас было надежное убежище, никому и в голову не приходило, что в нем может прятаться живое существо, и мы просиживали там часами, точно разбойники с большой дороги, которые ждут: вот-вот их выудят оттуда и повесят. По другую сторону ледяных стен был подлинный и страшный мир, а в нашем пристанище, хоть оно и походило на склеп, попробуй нас достань: взрослому нипочем было не влезть в узкую дыру, которая служила нам входом; правда, по ночам, в постели, мне снилось, что кто-то пробил киркой нашу ледяную крышу и только чудом не раскроил головы нам с Билли.
Весной наш дом растаял, на земле вокруг дерева от него остался лишь черный след.
Однажды мы с Билли перелезли через чью-то ограду в стороне от Хай-стрит — там во дворе стояла тележка фруктовщика, нагруженная для завтрашней торговли. Мы перебросили через ограду сколько могли консервных банок, уложили их в тачку Билли и в темноте повезли нашу добычу прочь. Остановились у его подвала, подняли решетку и половину покидали вниз, — банки без шума скатились прямо на детскую постель. Его родители решили — снедь эта попала к ним в преисподнюю прямо с неба — и прибрали все в буфет. А моя бабушка, увидев банки, обрадовалась и две открыла к ужину, чтобы нам была прибавка к хлебу с маслом.