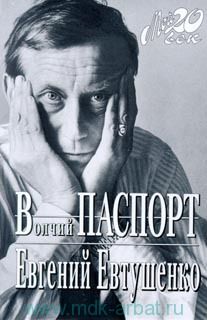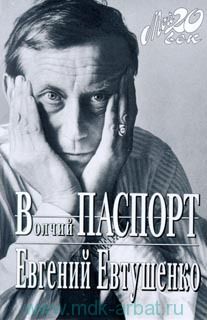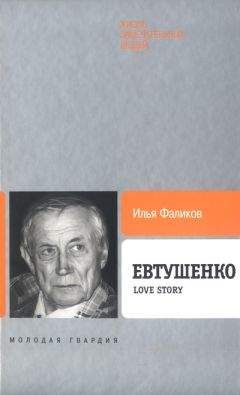— Только вы нас можете выручить, только вы… — ещё раз повторил мужчина с честными голубыми глазами, в ковбойке с протёртинками на воротнике, с брезентовым, не слишком полным, выцветшим рюкзаком за плечами.
Он держал за руку мальчика — тоненького, шмурыгающего носом, в коротеньких штанишках, в беленьких носочках, на одном из которых сиротливо зацепился репейник. У мальчика были такие же, только ещё более ясные голубые глаза, лучившиеся из-под льняной чёлки.
Этот незнакомый мне мужчина ранним утром пришёл в мою московскую квартиру со следующей историей. Он — инженер-судоремонтник, работает на Камчатке. Приехал с сыном в Москву в отпуск — их обокрали. Вытащили всё — деньги, документы. Знакомых в Москве нет, но я — его любимый поэт и, следовательно, самый близкий в Москве человек. Вот он и подумал, что я ему не откажу, если он попросит у меня деньги на два авиабилета до Петропавловска-на-Камчатке. А оттуда он мне их, конечно, немедленно вышлет телеграфом.
— Сынок, почитай дяде Жене его стихи… — ласково сказал мужчина. — Пусть он увидит, как у нас в семье его любят…
Мальчик пригладил чёлку ладошкой, выпрямился и начал звонко читать:
— О, свадьбы в дни военные!
Деньги я дал. С той поры прошло лет пятнадцать, и у этого мальчика, наверно, появились свои дети, но никакого телеграфного перевода с Камчатки я так и не получил. Видимо, этот растрогавший меня маленький концерт был хорошо отрепетирован. Меня почему-то вся эта история с профессиональным шантажом сентиментальностью сильно задела.
Всё моё военное детство было в долг. Мне давали в долг без отдачи хлеб, кров, деньги, ласку, добрые советы и даже продуктовые карточки. Никто не ждал, что я это верну, да и я не обещал и обещать не мог. А вот возвращаю, до сих пор возвращаю.
Поэтому я стараюсь давать в долг деньги, даже нарываясь на обманы. Но я стал замечать, что иногда люди, взявшие у тебя в долг, начинают тебя же потихоньку ненавидеть, ибо ты — живое напоминание об их долге. А всё-таки деньги надо давать. Но откуда их взять столько, чтобы хватило на всех?
В детях трущобных с рожденья умнинка:
надо быть гибким,
подобно лиане.
Дети свой город Санто-Доминго
распределили
на сферы влияний:
этому — «Карлтон»,
этому — «Хилтон».
Что же поделаешь —
надо быть хитрым.
Дети,
в чьём веденье был мой отельчик,
не допускали бесплатных утечек
всех иностранных клиентов
наружу,
каждого нежно тряся,
словно грушу.
Ждали,
когда возвратятся клиенты,
дети,
как маленькие монументы,
глядя с просительностью умеренной,
полные, впрочем, прозрачных намерений.
Дети,
работая в сговоре с «лобби»,
знали по имени каждого Бобби,
каждого Джона,
каждого Фрэнка
с просьбами дружеского оттенка.
Мальчик по имени Примитиво
был расположен ко мне
без предела,
и моё имя «диминутиво»[4]
он подхватил
и пустил его в дело.
Помню, я как-то ещё не проспался,
вышел небритый,
растрёпан, как веник,
а Примитиво ко мне по-испански:
«Женя, дай денег!
Женя, дай денег!»
Дал.
Улыбнулся он смуглый,
лобастый:
«Грасиас!» [5]—
а у него из-под мышки
двоеголосо сказали:
«Здравствуй!» —
два голопузеньких братишки.
Так мы и жили
и не тужили,
но вот однажды,
как праздный повеса,
я в дорогой возвратился машине,
а не случилось в кармане ни песо.
И Примитиво решил, очевидно,
что я заделался к старости скрягой,
да и брательникам стало обидно,
и отомстили они всей шарагой.
Только улёгся, включив эйркондишен,
а под балкончиком,
как наважденье,
дети запели, соединившись:
«Женя, дай денег!
Женя, дай денег!»
Я улыбнулся сначала,
но после
вдруг испугала поющая темень,
ибо я стольких услышал в той просьбе:
«Женя, дай денег!
Женя, дай денег!»
В годы скитальчества и унижений
Женькою был я —
не только Женей.
И говорили бродяги мне:
«Женька,
ты потерпел бы ишшо —
хоть маленько.
Бог всё увидит — ташшы свой крест.
Голод не выдаст,
свинья не съест».
Крест я под кожей тащил —
не на теле.
Голод не выдал,
и свиньи не съели.
Был для кого-то эстрадным и модным —
самосознанье осталось голодным.
Перед всемирной нуждою проклятой,
как перед страшной разверзшейся бездной,
вы,
кто считает, что я — богатый,
если б вы знали —
какой я бедный.
Если бы это спасло от печалей
мир,
где голодные столькие Женьки,
я бы стихи свои бросил печатать,
я бы печатал одни только деньги.
Я бы пошёл
на фальшивомонетчество,
лишь бы тебя накормить,
человечество!
Но избегайте
приторно-святочной
благотворительности,
как блуда.
Разве истории
недостаточно
«благотворительности» Колумба?
Вот чем его сошествье на сушу
и завершилось, как сновиденье —
криком детей,
раздирающим душу:
«Женя, дай денег!
Женя, дай денег!»
— У Колумба опять грязные ногти! Что мне делать с этим ирландцем? Мы же сейчас будем переходить на укрупнение его рук! Где гримёр?! — по-итальянски заверещал голый до пояса кактусоногий человечек в драных шортах, с носом, густо намазанным кремом от загара.
— А может быть, грязные ногти — это мужественней? — задумался вслух кинорежиссёр с красным, как обожжённая глина, лицом и таким же белым от крема носом, что тоже делало его похожим на кокаиниста.
Но съёмка уже началась, несмотря на творческие разногласия.
Лениво покачивались банановые пальмы. Они были настоящие, но казались искусственными на фоне декорационных индейских хижин без задних стен.
На циновке восседал Христофор Колумб — ирландский актёр, страдающий от нестерпимо жмущих ботфортов, ибо свои, родные были в спешке забыты в Испании на съёмках отплытия «Санта-Марии». Сидящий рядом с Колумбом индейский касик Каонабо — японский актёр — с мужеством истинного самурая молчаливо терпел на своей подшоколаденной гримёром шее ожерелье из акульих зубов. Колумб величественно протянул касику нитку со стеклянными бусами, весело подмигнув своим соратникам — задёшево нанятым в Риме американским актёрам, зарабатывающим на спагетти-вестернах. Касик благоговейно прижал дар к мускулистой груди каратиста и с достоинством передал Колумбу отдарок — золотую маску из латуни. Массовка, набранная на набережной Санто-Доминго из десятидолларовых проституток, изображающих девственных аборигенок, а также из сутенёров и люмпенов, зверски размалёванных под кровожадных воинов, затрясла соломенными юбочками, копьями и пёстрыми фанерными щитами. Руки заколотили по боевым барабанам под уже записанную заранее музыку, звучащую из грюндиковских усилителей.
— Раскрываюсь… Фрукты! — прорычал камермен.
Кактусоногий человечек толкнул в спину одну из аборигенок, и она поплыла к Колумбу, профессионально виляя задом и покачивая на голове блюдо с тропическими фруктами из папье-маше, хотя натуральных фруктов кругом было хоть завались.
— Стоп! — сказал режиссёр погребально. — Откуда взялась эта старуха?
И все вдруг увидели неизвестно как попавшую внутрь массовки сгорбленную, крошечную индианку в лохмотьях. Старуха блаженно раскачивалась в такт музыке, отхлёбывая ром из полупустой бутылки, сжатой морщинистыми иссохшими ручонками ребёнка, состарившегося от чьего-то злого колдовства.