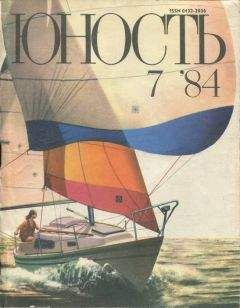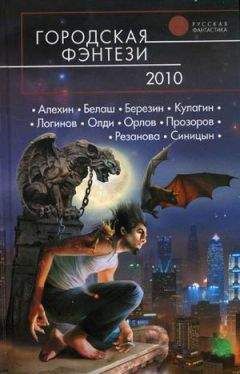Вот почему: «У меня опасный возраст, — говорю я. И прибавляю: — Папа должен заниматься мной больше, чем тобой».
— А на меня Елена Аркадьевна жаловалась, — хвастается она.
— И что с того?
— А то! — И гордо выставляет ножку. Туфли у нее модные, на каблуках — в ее возрасте мне разве купили б такие! — Если учительница жалуется на ребенка, то родители должны уделять ему повышенное внимание. Ясно тебе, Женечка?
Вот оно что!
— Ничего, — говорю. — У тебя и так все пятерки.
— А вот и не все.
— Четверку, что ли, получила? — Для меня четверка — это уже потолок.
— Не четверку.
Я смотрю на нее с интересом.
— Трояк?
Маленькие руки в кольцах уперты в бока, а ножка фасонисто поворачивается на каблуке туда-сюда.
— Ну уж не двойка? — И самой смешно от такого нелепого предположения.
Из-за четверки сестра устраивает дома истерику, черкает тетрадь, а потом садится и все от корки до корки переписывает без единой ошибочки.
— Не двойка, — отвечает она и томно опускает глаза. И вдруг по всю глотку: — Кол! Ясно тебе? Кол!
— По поведению? — догадываюсь я.
Она снова опускает глаза, снова туфелькой вертит.
— Неважно, по чему.
Конечно, по поведению. На уроках крутится и болтает, вырывает волоски у своего соседа Чижикова, который якобы сделал ей предложение, а однажды, спрятавшись под парту, потихоньку разрисовала фломастером новенькие сандалии другого мальчишки, который, если верить Ксюше, тоже сделал ей предложение. Вот и появляются время от времени среди ее пятерок пары (а теперь, значит, еще и кол) по поведению.
Папа с мамой относятся к этому спокойно. Они даже корят ее, что слишком уж жаждет стать отличницей. Зато меня пилят за тройки. Стало быть, меня и воспитывать надо. Стало быть, не с ней, а со мной должен идти на прогулку папа.
Сам он не вмешивается в наш спор. С деловым видом перекладывает на стеллажах книги. Притворяется! Разве не приятно, что дети ссорятся из-за него?
В конце концов встревает мама.
— А ну их! — говорит младшей дочери и машет на старшую, то есть на меня, рукой. — Пусть идут. Мы с тобой найдем тут чем заниматься.
Заговорщицки звучит ее голос. Ксюша моментально улавливает это, и глаза ее расширяются.
— Чем?
— Найдем чем, — обещает мама таинственно.
Ксюша пытливо глядит на нее, потом подбегает и что-то горячо, быстро шепчет на ухо. Маме щекотно, она улыбается, а Ксюша, отстранившись:
— Да? Мама, да? — теперь уже громко.
— Ну да, да… — И смеется и поглядывает на меня: не обижусь ли на их секреты?
Я не обижаюсь. Чем они могут заниматься тут, как не шитьем очередной юбки? Это и есть секрет. Ради нарядов Ксюша готова пожертвовать всем, в том числе и прогулкой с папой. Вдвоем уходим и даже Топу не берем. А она надеется, она следит за нами исподтишка, по-лошадиному кося глазом на ошейник. Стоит мне или папе коснуться его, как она сорвется с места, заскачет, закружится, затанцует и не то что хвост — весь зад заходит ходуном от восторга.
Запись третья
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Я догадываюсь, о чем говорит Ксюша с папой.
— А ты в детстве, — спрашивает она, — боялся глубины?
— Конечно, боялся.
Этого и ждала она. До сих пор, трусишка, не умеет плавать, хотя живем в пятидесяти километрах от моря. А гульгановская бабушка — и вовсе на берегу.
— Но потом научился?
— Потом научился.
Тоже хороший ответ. Но бывает лучше. Папа, например, плохо учился, а у нее одни пятерки, и вот она без конца уточняет: «А по русскому сколько у тебя было? А по математике?» И цветет, слыша: «Да так, троечка». Крепится-крепится и, не удержавшись, выпаливает: «А у меня пять!» Будто он не знает этого!
Я тоже расспрашиваю папу, но не про детство, нет, про отрочество, что ли. В общем, про тот возраст, в каком сама сейчас.
Его учеба не интересует меня. С учебой (и его и моей) все ясно. Да и не ходил он в девятый класс — поступил после семи в техникум.
— У папы условий не было, — напоминает нам всякий раз мама.
Не по душе ей антипедагогическая откровенность папы, который даже ради воспитательных целей не желает чуточку приукрасить себя.
А мне нравится, что не желает. Что говорит все как есть и никакие темы не считает для меня запретными.
Однажды мы целый вечер выясняли с ним, что такое компромисс.
— Вот ты, — говорил он, — с удовольствием шла бы сейчас не со мной, а с молодым человеком, И беседовала б не о каком-то там компромиссе, а о любви. Но так как молодого человека не видать пока что, ты довольствуешься отцом. И рассуждаешь с ним не про любовь, а про разные скучные материи. Это и есть компромисс.
— Я и про любовь могу с отцом, — отвечаю с улыбкой.
— Увы! Мой опыт в этой области скуден. Не нравился я девушкам,
— Никому-никому?
— Ну, почему никому? Некоторым нравился. Одна была выше меня на голову и писала стихи, в которых были такие строки: «Я пришла к тебе по морю, как по Млечному Пути». А от другой всегда пахло маринованными помидорами.
— Помидорами?
— Представь себе! Красными, с укропчиком…
Я облизываюсь.
— А что! — говорю. — Не такой уж плохой запах.
— Разумеется. Если он исходит от овощей, а не от девушки.
Я думаю: а чем, интересно, я пахну? Но сращиваю другое:
— А какие тебе нравились?
— Такие, как ты, — отвечает он.
Кажется, я даже краснею в темноте. Папа не скупится на обидные слова, если попадешь ему под горячую руку, но и на комплименты тоже щедр.
— Когда-то я мечтал пройтись по городу с такой вот симпатичной и умной девушкой, Черта с два! Они и близко не подпускали меня.
— Зато, видишь, теперь подпустили.
— Теперь подпустили. Терпение, брат! Рано или поздно одни наши желания отмирают, другие — осуществляются. Это как письма «до востребования». Если в течение определенного срока за ними не явился адресат, их отсылают обратно.
Некоторое время идем молча. Я размышляю над папиным сравнением.
— Но ведь тогда, — приходит мне в голову, — я никогда не узнаю, что в них. В письмах этих.
— Ничего, — успокаивает он. — Узнаешь, что в других. Тоже своего рода компромисс.
Я не подаю виду, но мне делается грустно. Не хочется, чтобы предназначенные мне письма ушли назад непрочитанными.
Запись четвертая
МУРАВЕЙ НА ГЛОБУСЕ
— Куда прикажете? — осведомился водитель почтовой тележки.
Я пожала плечами.
— Мне туда, — и показала вперед.
— Мне тоже.
Мы пересекли привокзальную площадь и двинулись вниз по бульвару.
— Вас зовут Маша, — сказал он.
Теперь мы ехали рядом. Вернее, ехал он, а я шла.
— Не угадали.
Дорожка была узковата, и нам уступали дорогу,
— А я и не собираюсь гадать. Я знаю точно. — Он улыбнулся, и так ослепительно блеснули на круглом рыжем лице ровные зубы.
— Но ведь и я тоже знаю…
— Не обязательно. Вы можете заблуждаться. Если ваши родители прошляпили, когда называли, то как вы можете узнать свое настоящее имя?
— А как вы узнали?
— Свое?
— Нет, мое, Ну, и… свое тоже.
И закусила губу. Получилось, будто я напрашиваюсь на знакомство.
Он вскинул руку — как раз под деревом были мы, — а когда опустил, я увидела веточку акации. Зеленую! Первое дерево, которое выбросило листву, — все другие были пока что голые.
— Меня зовут Иваном Петровичем, — сказал он и протянул мне веточку, как цветок.
Я взяла ее и, как цветок, понюхала,
— Очень приятно.
— Что меня зовут так? Или пахнет приятно?
Так со мной еще не знакомились. Некоторые, правда, заговаривали на улице, однажды водитель остановил специально для меня троллейбус, уже отъехавший от остановки, а в другой раз двое ребят подарили дрессированную стрекозу. Она была голубой, тоненькой и сидела на ухе одного из них. Он поднес палец, стрекоза перебралась на него, а уже с пальца — на мое плечо. Я шла и косилась, как Топа на ошейник. Возле дома стала. «Ну, лети», — и тихонько подула. Прозрачные, с синими прожилками крылышки покачались туда-сюда и снова замерли. Тогда я по примеру хозяина подставила палец. Выпуклый стрекозий глаз внимательно глядел на него, но, видимо, мой палец не внушал доверия. Пришлось отцеплять ее от платья.
— А мне подарили стрекозу, — похвасталась я дома. — Ученую!
Папа смотрел, смотрел на меня, и взгляд его вдруг затуманился. Я поняла, что он сочиняет сказку.
Ксюше стрекоз не дарят. Но зато ей дарят бананы, бусы и горячие бублики. А еще делают предложения, в ответ на что она, девятилетняя бандитка, выдергивает у мальчишек волосы и разрисовывает фломастером их сандалии. Полкласса влюблено в нее. Она не отвечает взаимностью. Другому отдано ее сердце. Я не могу назвать тут его имени, потому что тогда она не даст мне проходу, но оно, имя это, известно всем. Как и его веселые песенки (мне они тоже нравятся). Его усатое лицо знают даже те, кто никогда не смотрит телевизор. Но по улице-то они ходят, а значит, видят сумки с его изображением. Холщовые пляжные сумки с веревочками вместо ручек. В Гульгане на бабушкиной фабрике делают их.