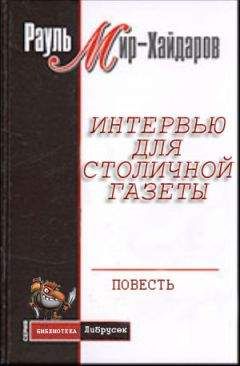Пожалел он только о волосах. Иссиня-черные, как у многих восточных людей, густые, волнистые, они всегда были предметом его особой заботы. Своих волос, считай, он не видел три года. За полгода до окончания срока он получил разрешение отпустить волосы, но ему не повезло: два месяца назад неожиданно нагрянула какая-то инспекционная проверка, и пришлось постричься, а прическа была уже что надо. Сейчас волосы отросли настолько, что обозначался четкий пробор. Ален Делон даже сказал, что нынче такая короткая стрижка в моде, но это не обрадовало Инженера: у него были свои привычки.
Вглядевшись внимательно в зеркало, он удивленно провел рукой по волосам: голова была наполовину седой.
— Ничего страшного, не красна девица,— сказал вдруг нарочито грубо дядя Костя, будто прочитал его мысли.
Сумка, уже застегнутая, стояла на полу, а на прилавке, на свежей салфетке, лежали ловко разделанная курица, свежие огурцы и помидоры, вкус которых Гимаев уже забыл, зелень, брынза. Дядя Костя отвинтил пробку «Столичной» и разлил по стаканам.
— За счастье и удачу, вот такой банальный тост, Инженер,— сказал завмаг. Он, похоже, знал о своих клиентах достаточно.— Куда держим путь? — спросил дядя Костя, не притронувшийся к обильной еде, он только следил, чтобы Максуд брал побольше.
— Сегодня ближайший рейс только на Ташкент, а там уже решу, куда двигаться, оттуда улететь просто… да и здесь ни минуты не хочется задерживаться…
— Понимаю, понимаю,— завмаг покачал головой. — Я ведь ташкентский — наверное, слышал? Ташкент — удивительный город, советую приглядеться. Есть где тормознуть на несколько дней?
— Нет, я там никогда не бывал. Как-нибудь… мир не без добрых людей.
— Зачем же как-нибудь, да и добрых людей нынче долго искать приходится. — Завмаг встал и взял с полки потрепанную записную книжку. — Это моя старая клиентка, администратор хорошей гостиницы, передашь привет от дяди Кости — десять лет одевалась у меня. Конечно, мог бы и у меня дома остановиться, хоть и у сыновей — у каждого кооператив в центре города, да не хочу, чтобы ты общался с ними, успеешь, навидаешься еще таких…
На том они и распрощались с дядей Костей. Шагая к центру, чтобы добраться до аэропорта, Гимаев думал о завмаге. Его беду он знал.
В молодости дядя Костя, парень, по его собственным словам, незаметный, невидный, влюбился в красавицу Манечку Шилову. На танец пригласить, не то чтобы проводить домой, казалось для Кости неразрешимой проблемой: сквозь строй ухажеров Манечки не пробиться, да парни какие — один лучше другого, а уж отчаянные! Косте тягаться с ними было даже не тяжело, просто смешно. Но однажды зашла Манечка к нему в магазин и спросила какую-то вещь, которая в то время была дефицитом, только слова такого в ходу не было — за это дядя Костя головой ручался. Он с радостью отдал эту вещь Манечке и заверил, что из-под земли достанет все, чего она только ни пожелает.
С того дня она и стала замечать неприметного Костика, которого раньше в упор не видела. Правда, не очень баловала его Манечка вниманием, но если увидит, непременно улыбнется, спросит о чем-нибудь. И в круг своих ухажеров чуть ли не за руку ввела. Но там, среди ребят известных, он не пыжился, всегда готов был угостить дорогим по тем бедным временам «Казбеком», а то и бутылку выставить. По натуре Костя не был жадным, а тут, на глазах возлюбленной и ребят авторитетных, ему и вовсе хотелось выглядеть щедрым, и это ему удавалось — в то лето он приобрел известность на Кашгарке.
Тогда же он понял, что нет для Манечки ничего милее на свете, чем наряды. Пусть мелочь: сумка, косынка, перчатки, простенькие босоножки, флакон духов — как радовалась она любому подарку! И от подарка к подарку теплее относилась к Костику, еще полгода назад он об этом и мечтать не смел.
Как-то зимой она пришла перед самым закрытием, и они, открыв бутылку вина, засиделись в магазине допоздна. Манечка, веселая, возбужденная от вина, примеряла обнову за обновой и демонстрировала туалеты Костику. Тогда они оба, пожалуй, не предполагали, что существует такая профессия — манекенщица, но этим талантом, безусловно, обладала шальная Манечка, да и хороша она была чертовски! Когда она примеряла темно-синее в талию зимнее пальто из дорогого драпа с воротником из пышной чернобурки, вдруг побледнела, сникла сразу — куда девалась и веселость — и чуть не плача сказала:
— Костя, милый, если бы ты знал, как мне хочется это пальто. Лучше повеситься, чем снова ходить в старом мамином.
Не снимая пальто, она подошла к молчавшему Костику и вдруг, обняв его шею руками, поцеловала в губы. Поцеловала жадно, страстно, как никогда никого в жизни еще не целовала. Ушла она из магазина за полночь, с аккуратно перевязанным свертком.
Всю зиму они сбегали, не дожидаясь конца, с танцев в Доме офицеров и миловались то у него в магазине, то у Манечки дома, когда ее мать работала в пекарне в ночную. Благодарный за ласки, Костя без сожаления отдавал Манечке из магазина все, что ей нравилось. Он так заворовался, что уже и не боялся, брал, что хотел, решив: семь бед — один ответ, и к ответу он в душе был готов. Ревизии? Случались и ревизии. Приходил ревизор, долго, тщательно, не день и не два проверял, стучал костяшками, непременно находил недостачу. Нудно стращал Костика, составлял грозный акт, а затем вдруг, когда Костя уже считал, что отгулял свои свободные денечки, ревизор называл сумму отступного, акт рвали, составляли другой — и все начиналось сначала.
Другие ревизоры ему пока не попадались, хотя он чувствовал, что другой ревизор есть, только его черед еще не наступил; так и жил он, как на вулкане.
Весной Манечка испуганно призналась, что, кажется, забеременела. Ревизия только прошла, и Костя, ходивший на радостях петухом, тут же предложил ей выйти за него замуж. Ситуация по тем временам была непростая, и Манечка дала согласие, а уж радость Костика была беспредельной: он любил свою Манечку. Сыграли свадьбу, опять же крупно запустив руку в кассу магазина. Следующая ревизия должна была стать последней, потому что уже не сходились никакие концы. Но случилось чудо: в день рождения сына, когда Костя «дежурил» у роддома, магазин из-за короткого замыкания в какой-то час сгорел дотла.
На пепелище он плакал так исступленно и искренне, что всем собравшимся было жаль завмага. Но плакал Костя не из-за страха,— чего же ему бояться? — эти иступленные слезы были слезами признательности чему-то неведомому, что он называл Судьбой и что спасло его от верной гибели.
С того дня он не то чтобы стал верующим, но и в церковь иногда тайком забегал, а сына крестил по всем правилам. Получил он новый магазин — директор торга при случае всем рассказывал, как убивался молодой завмаг, ставил другим его в пример за преданность делу. Вообще-то в застенчивом Костике тогда трудно было заподозрить хапугу, даже такому тертому человеку, как директор торга.
Манечка, как вышла замуж, считай, толком не работала всю жизнь. Правда, одно лето устроилась билетершей в летний кинотеатр, что открыли неподалеку от дома, да и то частенько вместо нее впустить зрителей в зал приходили то мать, то Костик, а уж убирала зал и закрывала на замок не Манечка, а соседская ребятня, которую она пускала без билетов.
Через два года она родила еще одного мальчика. Может, материнство тому было причиной, но Манечка расцвела такой дивной красотой, что все знавшие ее только поражались. Росли сыновья, шли годы… Костя по-прежнему потихоньку приворовывал, но теперь более осторожно, изощренно, а Манечка все цвела, казалось, ее красота не подвластна времени. Не теряла она интереса и к нарядам, даже наконец-то развила в себе вкус.
Все было бы ничего, к Манечке и ее капризам Костя привык, но вот сыновья, которых он любил, о которых мечтал, что вырастут они достойными людьми, стали огорчать его еще в школе. Они унаследовали, как думал Костя, от матери не только внешность, но и все ее пороки. Сколько и чего только ни пришлось давать и репетиторам, и в школе, чтобы его оболтусы получили аттестаты, но этим занималась сама Манечка, и у нее неплохо получалось.
Такого тройного пресса дяде Косте бы не выдержать, но наступили «золотые» годы дефицита: народ стал жить получше, и чтобы заполучить хорошую вещь, покупатель не скупился. Не какой-нибудь там четвертной — полсотни сверху давали, а иная дефицитная вещь стоила две цены; с другим же товаром дядя Костя даже и не связывался.
Одно время в узком кругу к нему даже приклеилась кличка Мистер Бельгийское Пальто. Сколько он продал этих пальто — не счесть! А Манечка тем временем устраивала, переводила из института в институт, с курса на курс сыночков. Каждый переход, каждая сессия обходились Мистеру Бельгийское Пальто в кругленькую сумму. В некоторых институтах, как и у него в магазине, существовала твердая такса на все, и это возмущало дядю Костю: такса казалась ему чрезмерно завышенной. Но для сыновей ему ничего не было жаль, верилось — выучатся, образумятся.