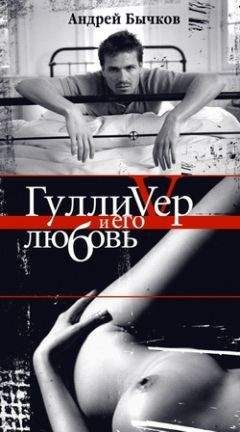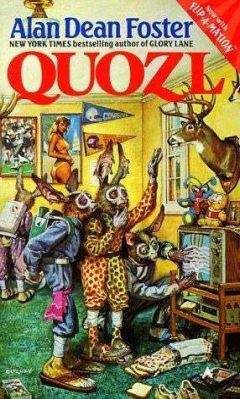Ему было сорок лет, до сих пор он был покорный бобыль с тайной надеждой. Как и многие, он был вывернут временем наизнанку, и время потрудилось над уничтожением его души. И сверху его душа стала, как прибитая кожа. Тогда-то он и подумал, что теперь, наверное, остаются только лыжи.
«Или подарить ей коньки? Нет, лучше сразу за руку, грубо: „На четыреста“».
Но в помещении было пусто. Он был одним из первых посетителей. Черный кафель блестел. Сияли начищенные писсуары. Пол был чист. И новое полотенце – вафельное, белое, висело углом, не преодолев еще тяжестью влаги с рук свою нечеловечески накрахмаленную складку. Он сел на диван и стал ждать, когда откроется дверь, которую не заметил вчера поначалу в треснувшем зеркале. Входили и выходили мужчины, расстегивая и застегивая пальто, шубы, пиджаки, рубашки, ширинки, пользуясь щетками, водой из никелированного крана, писсуарами, кабинками, душистым мылом, вафельным полотенцем, расслабляясь, очищаясь, приходя в себя, приводя себя в свежий вид. Прошло сорок минут. Он все сидел и ждал, ему стало жарко, он распахнул пальто, потные ладони прилипали к новенькой коже дивана, и он часто их перекладывал, наблюдая иногда бессмысленно, как быстро высыхают, уменьшаясь, блестящие пятна его пота. «А может, она там с тонкогубым?!» – внезапно пронзила его мысль. Резко встал.
И дверь открылась… и выехал на маленькой тележке инвалид без ног в коричневой замызганной курточке и в рубашке с галстуком, и с лицом, похожим на мешок. Отталкиваясь неожиданно белыми руками от пола, инвалид подъехал сразу к нему, протянул сморщенную розовую (видно, только что вымытую) лодку ладони. Тогда в смятении, сконфуженно он вынул из кармана и наклонился и вложил инвалиду рубль в ладонь и сел.
– Благодарю вас, – сказал инвалид, развернулся и поехал к другому мужчине, который прыскал себе в лицо водой из-под крана и громко фыркал и мычал, потрясая мохнатой жукастой шубой на плечах. И, поскольку мужчина в шубе был занят умыванием, инвалид проехал от него к другому, который с удовлетворением на лице отходил от керамического приспособления на стене. И отходящий, не спеша застегнув пуговицы ширинки, порылся в кошельке и дал инвалиду несколько серебряных монет.
– Благодарю вас, – сказал инвалид.
В помещение больше никто не входил, и он снова покатился к мужчине в мохнатой жукастой шубе, который вытирался, кряхтя, о вафельное полотенце. Остановив тележку за ним, инвалид стал вытирать руки о свою курточку, ожидая, когда жукастый обратит на него свое внимание. А тот, глянув в зеркало и поправляя волос, вдруг круто отступил назад и споткнулся неожиданно об инвалида и перевернул нечаянно того вместе с тележкой, и чуть не упал сам.
– Скотина! Дрянь! Мерзость! – закричал жукастый, пнув ботинком в тележку, лежащую поверх искривленной спины инвалида, и пошел вон из помещения, продолжая зло и в сердцах ругаться: – Ну просто какие-то пиздюки!
Человек на диване закрыл руками лицо: «Фарс, фарс…»
Но откуда он мог знать, может, это и был Бог, этот перевернутый инвалид в курточке, в грязной сорочке с дешевеньким галстуком и был Бог для него? Но откуда же знать, что Бог может и так?
– Рося, – шептал хрипло из-под тележки инвалид. – Рося, помоги, слышь… Опять они меня…
Он корчился, втягивая в себя обезображенный, подоткнутый курточкой торс, пытаясь сбросить тележку и освободиться от вывернувшегося ремня.
– Рося, – давился инвалид; галстук, зацепившись, жал ему горло, выворачивая белки из мешковины лица. – Рося, мать твою… Да помоги же кто-нибудь!
И тогда толстогубый не выдержал. Он вскочил. Но он не бросился к инвалиду. Он закричал:
– Господи! Помоги мне! Не могу я больше так жить! Не могу!
И рухнул коленями о плитку пола, и зарыдал, как мальчик, натягивая себе на голову пальто, ежась, словно от холода, и вдавливая лоб в доску дивана.
И мальчик в будке, провожая взглядом матерящиеся ботинки, слыша крики из помещения снизу, нажал быстро на кнопку. И включил музыку.
Дерево, покрытое лаком, было холоднее его лба, новая кожа дивана, скользя, касалась его волос. Вдруг открылась и захлопнулась дверь; он перестал плакать, замер, прислушиваясь: чьи-то легкие шаги, возня, царапание железки по полу, пыхтение инвалида, его «спасибо, спасибо, вот спасибо, вот спасибо». Он понял, что это она. Он слышал, что она молчит, не отвечает. Он представил ее себе, ее лицо, застыл, не оборачиваясь, оставляя дерево дивана у лба. Ему почему-то казалось, что прядь ее волос должна выбиться из-под платка и мешает ей смотреть, она же наклонилась, помогая старику, и теперь она все время поправляет спадающую прядь рукой. Воспоминание, давно забытое, коснулось его. «А в школе я боялся входить в туалет, если рядом с дверью стояли девочки, – стыд». Музыка настигала его. Дотрагивалась на глубине. Он не чувствовал слез, текущих по его лицу. «Нет меня, нет, и тела моего нет», – так слышал он музыку.
– Помоги ему, – раздался громкий бесстрастный голос инвалида. – Другой упал, не он, на меня, не он.
– Вам помочь? – услышал он ласковое, осторожное, невинное.
Он нащупал в кармане пачку в четыреста рублей.
– Эй, вам плохо? – переспросила она смелее, трогая его за плечо.
– Не надо, – сказал он, отлепляя лоб от лакированной доски дивана.
Поднялся. На нее не смотрел. Обогнул инвалида. Поднялся по ступеням. Было по-прежнему морозное солнечное утро. Он вздохнул глубоко. Усмехнулся. Следы слез холодили лицо. Он выпустил губы. Расстегнул неторопливо ширинку и поссал на блестящий, желтоватый, песочный, утоптанный прохожими, снег.