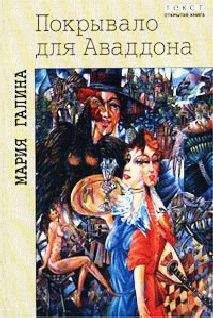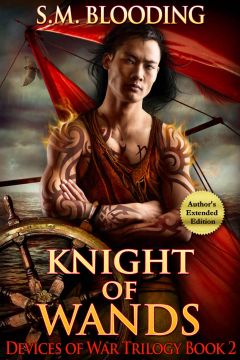— Ну, тогда не знаю, — теряется Августа.
— Дамы? — раздаётся давешний голос, — прошу прощения… Где здесь четырнадцатый участок?
То ли это тот посетитель, то ли уже другой… не разглядеть в сгущающихся сумерках.
— Направо, — любезно говорит Августа.
— Огромное вам спасибо…
Человек поворачивается и медленно, неуверенной походкой бредёт по аллее.
До Ленки долетает тяжёлая волна удушливого запаха.
— Господи! — говорит она шёпотом, — ты видела?
— Что я должна была видеть? — в полный голос спрашивает Августа.
— Он же весь синий!
— Лена, — холодно говорит Августа, — ты сошла с ума.
***
— А она хорошо выглядит, — одобрительно говорит Сонечка Чехова.
— Да никак она не выглядит, — говорит Ленка, — как обычно! Это коллективное внушение. Магия образа. Как выйдет, как охнет, как глаза закатит…
— Брось, ты просто ей завидуешь, — говорит Сонечка Чехова. — Ты вон тоже что-то там пишешь, а она Добролюбова читает.
— Знаю я, почему она его читает…
— Ты всё сводишь к пошлости… А она — чистый, культурный человек. Её имидж тебе недоступен. Вон у тебя под ногтями грязь.
— Это не грязь, — защищается Ленка, — это краска…
— Какая разница? Тише, не мешай слушать.
Вероника Лохвицкая выходит на возвышение. В воздушном лиловом платье, с вдохновенным бледным лицом стоит она рядом с белым роялем. Она глубоко вздыхает, и по рядам проносится ответный трепет.
— Композиция, — говорит она с придыханием.
— Это не женщина, — шепчет поэт Добролюбов, ёрзая на бархатной табуретке, — это Примавера…
Девочка с телевидения берёт наперевес камеру. …мы вышли в сад, — задушевно, интимно начинает Лохвицкая, и голос её постепенно набирает силу, — и ночь текла меж нами…
— Из какого сундука она извлекла это старьё? — возмущается Ленка, — оно же нафталином воняет! Она же твои должна была читать…
— Это и есть мои, — сухо произносит Добролюбов. — Лирический цикл.
— Ох, я хотела сказать…
— Да тише вы, — шипят сзади. -…и страсть звенела стременами…
Лохвицкая вдруг замолкает и строго оглядывает притихший зал.
— Паузу держит, — поясняет поэт Добролюбов.
— Послушайте, — вдруг звучным артистическим голосом произносит Лохвицкая, — кто испортил воздух?
Напряжение достигло высшего накала.
— Но… — нерешительно бормочет Добролюбов.
Лохвицкая упирает руки в бока и мрачно оглядывает зал.
— Молчи, Додик. Кто пукнул, спрашиваю? Ах ты, фраер засраный, чем тут сидеть в приличном месте, воздух портить, поди, скажи спасибо своей маме, что она вовремя аборт не сделала…
— Но, Верочка…
— Что — Верочка? Я уже тридцать лет Верочка.
— Сорок пять, — машинально поправляет Добролюбов.
Господи, думает Ленка, да что творится?
— Занавес, — выкрикивает поэт Добролюбов, — скорее дайте занавес.
— Господь с тобой, — говорит Ленка, — тут занавеса сроду не было…
Лохвицкая тем временем продолжает возмущаться: -…и ты, — это уже девочке с телевидения. — Чего вылупилась-то? Убери свою пукалку, пока я её сама не убрала — ноги отдельно, объектив отдельно… Чего тут снимать? Как я стишки читаю? Да это не стихи, а дерьмо собачье. Додик на коленях умолял — прочти да прочти… Пишет сам не знает что, а я стой, читай… говнюкам всяким… да пошли вы…
И она, надменно подняв голову, шествует между рядами к выходу. Все молча провожают её глазами. Поэт Добролюбов делает неуверенное движение, точно собирается кинуться следом, но остаётся сидеть на месте.
— У неё нервный срыв, — объясняет Ленке Сонечка Чехова.
— Ты думаешь? А по-моему, она ещё никогда не была до такой степени нормальна.
Просто она нарушила конвенцию. Знаешь, иногда так хочется высказаться, ну, наболело… но что-то мешает… Потому что ведь тут кто-то действительно…
— Я тоже почувствовала. Но я же об этом не говорю.
— Ну а она не выдержала. Может, ей мы все уже до такой степени опротивели…
Ленку грызёт непонятное чувство вины…
***
С утра прошёл нежный осенний дождь, и аллеи ещё не просохли. Над асфальтом клубится лёгкая сизая дымка, тонкие серебристые нити плывут в воздухе — перелётные пауки запускают свои монгольфьеры. Ленку ничего не радует.
— Опять всё сначала, — вздыхает она. — Гершензон за Гершензоном… опять тащить эту тяжесть… корячиться…
— Ладно, — говорит Августа, — всё-таки последняя могила в этом сезоне…
— По крайней мере с погодой повезло. — Ленка одобрительно оглядывает по-летнему буйную зелень, кое-где сбрызнутую жёлтым. — Уж лучше тут, на свежем воздухе, чем в институте гнить. А я боялась, мы сегодня не выберемся. Ты же говорила, у тебя студенты…
— А они не пришли, — отвечает Августа.
— Это как? Никто не пришёл?
— Никто. Непонятно… один позвонил вчера, что у него желудочное расстройство, у другого бабушка в больницу попала. С ветрянкой, представляешь? третья вообще…
Слушай, а почему у тебя на щеке синяк?
— Потому что я упала, — злобно говорит Ленка. — Чёртов троллейбус — занесло на повороте, а я как раз в дверях висела. Вот я и выпала. Хорошо, куча листьев подвернулась. Я в неё и вмылилась.
— Повезло, — замечает Августа.
— Можно и так считать, — неуверенно отвечает Ленка.
Они движутся осторожно, поминутно сверяясь с планом. Наконец Августа решительно останавливается у покорёженной ограды.
— Это точно наш Гершензон? — спрашивает Ленка.
— Уверена.
— А может, опять?
— Нет. Этот — наверняка наш. Смотри, как зарос. Этого тоже подстригать придётся.
Ну, ничего.
Августа хозяйским глазом окинула запущенную могилу. Внезапно она напрягается и хватает Ленку за руку.
— Смотри… что это там, под кустом? Приличные ботинки…
— Августа, — тихо говорит Ленка, — это не ботинки. Вернее, ботинки. Но в них — ноги.
— Может, это пьяный?
— Даже если так… но это не пьяный. Августа, умоляю, пошли отсюда!
Они разворачиваются и несутся по дорожке. Кусты у них за спиной шевелятся сами по себе.
— Он нас преследует, — пыхтит Ленка.
— Кто?
— Тот Гершензон.
— Брось, это паранойя.
Наверняка паранойя, думает Ленка, но на обратном пути им не встретилось ни одного человека. Может, они с Августой каким-то образом ухитрились всё перепутать и сегодня всё-таки суббота? Нет, тогда главный вход был бы закрыт.
— Что, — жалобно говорит она, уже оказавшись за воротами, — ну что мы ему сделали? Мы же убрали его могилу. Между прочим, задаром…
— Лена, — устало говорит Августа, — мне это немножко тошно слушать. Ты, видите ли, паришь на крыльях воображения, а тошнит почему-то меня. Я всё-таки математик, не то, что некоторые… с литературным уклоном… Логика должна быть.
— Если следовать твоей прямолинейной логике, то у четвероногих должно быть по две жопы, — сердито говорит Ленка. Но ей тут же делается стыдно — вид у Августы сегодня какой-то особенно измученный.
— Августа, что-нибудь не так?
— Нет, — говорит Августа. — Нет. Ничего.
Она явно мнётся, потом всё же решается:
— Послушай, а что ты вечером делаешь?
— Вроде ничего, — говорит Ленка.
— Может, зайдёшь ко мне? А я тебя чаем напою…
Господи, да что стряслось-то? — думает Ленка, она же замкнутая, до ужаса просто.
На всякий случай она забрасывает пробный камень:
— А альбомы покажешь?
У Августы неодолимая тяга к прекрасному, и квартира у неё забита альбомами с репродукциями. Но показывать она их не очень-то любит, потому что все так и норовят ухватить нежнейшие типографские шедевры грязными руками.
— Покажу, — покорно говорит Августа, и Ленка пугается.
— Ладно, — говорит она, — договорились…
***
— Печенье возьми, — Августа пододвигает Ленке вазочку.
— Да я уже, — мнётся Ленка.
— Ничего, — говорит Августа, — бери, бери ещё…
Господи, думает Ленка, я же сейчас лопну. Она кидает тоскующий взгляд за окно.
Море неслышно, но как-то ощутимо дышит за двумя рядами пятиэтажек, гостиницей «Ореанда» и санаторием «Жемчужина Молдавии», за перистой листвой акаций и лапчатой — каштанов, мерцающая осенняя тоска переливается в тёплом сумраке…
— Так я пойду? — говорит она.
— Посиди ещё немного, — просит Августа. — Я тебе ещё Модильяни не показала…
— Да я его как-то…
— Ну, Матисса… кстати, ты не знаешь, говорят, с Лохвицкой какая-то странная история вышла?
— Ну, вышла, — неохотно говорит Ленка, перелистывая глянцевые страницы.
— А что там случилось?
— Да так…
Вдруг Августа напряжённо подняла голову и расширенными глазами уставилась во мрак за окном.
— Ты что?
— Ничего, — мёртвым голосом произнесла Августа.
И тут только Ленка услышала мягкий стук в дверь — старую, поцарапанную дверь, рядом с которой торчали проволочки от вырванного с мясом звонка.