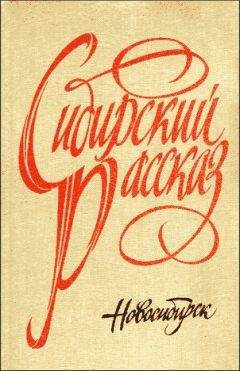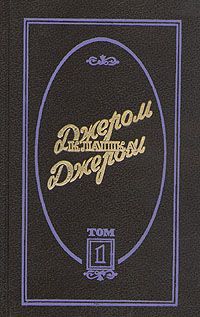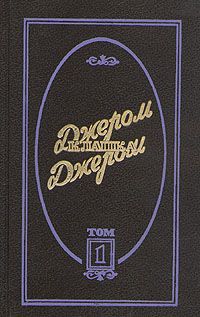Купился я совсем дешево.
Была поздняя осень, но день выдался удивительно теплым, напомнив недавнюю благодать — бабье лето. Южный ласковый ветерок к вечеру усилился, а ночью стал ураганным. Сила ветра определяется очень просто: если глухие цельнометаллические ворота, ведущие к объекту, лязгают и громыхают под напором ветра, значит — ураган, все остальное — семечки. Ветер нагнал серые лохматые тучи, дул нудно и ровно, словно гигантский пылесос работал. Приходилось суетливо семенить ногами, чтобы не подпрыгивать, когда, задирая обшлага шинели, толкал ветер в спину, и резко наклоняться вперед, чуть ли не носом тыкаться в тропу маршрута, когда, преодолевая встречное сопротивление, продирался сквозь ветер, с усилием, будто в воде, переставляя полусогнутые ноги.
Смена опоздала с выходом на три минуты. Виноваты, конечно, бодрствующие, и я поклялся всеми святыми разбудить их на четыре минуты раньше, чтобы, потратив минуту на выяснение отношений, на те же три минуты раньше улечься самому, восстановив тем самым законность, гармонию и справедливость. Три минуты, сгорая от нетерпения, пялился я на караулку, щурясь от режущего глаза ветра. Собирался уже бежать к телефону, опасаясь небывалого: вдруг все спят, все-таки около пяти утра?.. И тут лампочка над дверью осветила выходящие фигурки, слышно было, как топают три пары сапог по ступенькам, фигурки скрылись за углом противоположной стороны караулки, откуда косо упал свет — зажглась лампочка над пулеулавливателем, и слышно было, как трижды клацнули затворы, обнажая пустой патронник, после чего можно производить заряжание. Свет из-за угла потух, и секунд семь спустя смена осветилась лампочкой над входной дверью, и слышны были шаги по гравию, покрывающему территорию перед караулкой, ребята слились с темнотой, сейчас они проходят небольшую, покрытую редкой травой поляну, потом перейдут дорогу, там еще метров десять голой земли — и ступят на дорогу, покрытую гравием, ведущую прямиком к посту. Я снова их услышу, ходьбы тут минуты три, и начинается колючка позиции, и, сделав поправку на ветер, подпустив метров на десять ближе обыкновенного, можно подавать команду.
Вдруг, совсем рядом, в пугающей близости — шаги! И хоть на подходе уже смена, вот-вот я услышу, как топают они но дороге, все равно стало жутко. Вглядываться бесполезно — мрак. Шаги громче!.. Секундное колебание насчет взвинченных нервов, слуховых галлюцинаций сменилось готовностью к действиям — быстрым, четким, решительным, которые войдут в историю караульной службы неувядаемым образцом самоотверженности…
— Стоп! Кто идет? — поперхнувшись ветром, сипло заорал я и прыгнул за угол транспортного гаража.
Шаги вроде стихли. Высунулся и гаркнул на этот раз помощней. Прислушался. Шаги! Громко! Близко!
— Стой! Стрелять буду! — заорал я и дослал патрон в патронник.
В глубине души все-таки я грешил на кочегара, вылезшего, наверное, на свет божий продышаться или по нужде и надумавшего так идиотски шутить — мотать часовому нервы, играя в молчанку. Но предупредительная команда о выстреле заставила бы кочегара подать голос. А если этот пентюх, войдя в азарт, решил побить все рекорды идиотизма, то клацк затвора образумил бы его в момент: поди разбери потом, куда часовой пальнул первый раз, куда во второй.
Эти варианты прокрутились мгновенно. И ответом на сомнения шаги зазвучали, кажется, в метре, словно в голове, разрывая ее на части, заскрежетал гравий… Вроде тень? Да, тень на противоположном углу гаража! Не раздумывая ни о чем, саданул вверх.
Выглянул. Пусто. Тихо. И смену не слышно.
Потом оказалось: темным пятном на углу действительно был кочегар, но из кочегарки он появился за пару секунд до выстрела и, естественно, никаких команд не слышал. А шаги… Шагала смена, шли они, разумеется, в ногу, и этот вот трижды усиленный шаг ветер и донес до меня с такой невероятной отчетливостью. Потом уже, после того, как войска, поднятые в ружье, рассредоточенные на отряд заграждения, отряд оцепления, группу прочесывания и спецгруппу захвата, вдосталь наползались по сырой и холодной земле, потом, когда личный состав, бормочущий всякие слова в мой адрес, отправили сдавать автоматы и патроны в оружейку, а я сгорал от стыда и отчаянья, — командир кашлянул только, возвращая мне автомат, и лаконично подытожил: «Тетеря».
Все шишки достались дежурному офицеру, который якобы провел инструктаж караула формально, без учета погодных условий. За это же всыпали начкару и разводящему, да еще попутно схлопотал наряд кочегар: «За вопиющее нарушение правил санитарии и низкую бдительность».
И еще раз довелось пострелять, ровно через год после злополучного ЧП.
Службу тогда несли на внешних постах, за колючкой. Снова дул пронизывающий холодный ветер, снова приходилось поднимать воротник шинели, и чернели тоскливо поля, бугрясь редкими кучками неубранной картошки и ботвы.
Пацаны на велосипедах поканючили, позадирались и повернули обратно. Две бабки, крест-накрест перетянутые платками, постояв понуро и молча, тоже мирно потопали восвояси. И лохматый мордастый мотоциклист, перекрывая треск своего мотоцикла, с чувством обматерив нас, затарахтел в свою деревню.
Но, увидев трехтонку, я сразу понял — уговорами не обойтись. Дребезжа и взвывая, машина неслась на меня со скоростью, которую для местных дорог вполне можно счесть адской. Я стоял посреди дороги, демонстрируя выдержку и хладнокровие. Когда дальнейшая демонстрация грозила на самом деле охладить мою кровь до равенства с внешней средой, метнулся на обочину и сдернул автомат.
Видимо, боковым уже зрением заметил шофер мой жест — лязг, визг, скрежет, машину занесло. Мужик того калибра, издавна который именуют плюгавым, в неизменной засаленной телогрейке, в шапчонке, с недельной щетиной, явно на взводе, ступив на подножку, заорал на меня:
— Чего берданку-то цапаешь?
Я дрог на ветру четвертый час, руки мне оттягивал родной акээмчик, за одно оскорбление которого…
— А ну разворачивай драндулет! — зло скомандовал я.
Мужик и ухом не повел на мою властность: стоял на подножке, по-птичьи крутил головой, поглядывая то вперед, где метрах в трехстах маячила фигура часового, то на меня, даже не на меня, а на автомат в моих руках, как бы прикидывая вероятность его употребления и напрочь игнорируя владельца, то на скопление машин за колючкой. Наконец, решившись, выдав скороговоркой ряд непечатных умозаключений, нырнул в кабину — и как-то неожиданно резво драндулет его сорвался с места…
Руки подрагивали, и в животе противно сквозануло холодом, но когда, страхуясь, еще на несколько метров отбежал я от дороги, чтобы не задеть другого часового, и, став на колено, опустив предохранитель на «авт», дослал патрон в патронник, — руки пришли в норму. Машина снова завизжала тормозами, наверное, тип этот все-таки следил за мной в зеркальце, но остановить себя я уже не мог.
Утром из Города прибыл дознаватель, и плюгавый бедолага в сотый раз твердил «легенду» про литряк, за которым «робята» послали к куму. Мне грозили неприятности: прошил скаты без предупредительного выстрела, но я стойко твердил уставный пункт, дающий право открывать огонь без предупредительного выстрела в случае явной попытки проникновения на пост или нападения на часового. Колхозное начальство умолило командира не раздувать дела, и мужика с рук на руки сдали милиции, промурыжив в назидание трое суток в бане, на окошко которой ради такого случая приляпали решетку.
Так что на посту пострелял я дважды.
Иногда, побатарейно, нас уводили в ложбину между сопками, и — лежа, с колена, стоя, одиночными и очередями — мы решетили мишени. Стрельбы эти ждали как праздник. А праздник, наверное, потому и праздник, что надо его ждать и жить буднями: политзанятия, спецдисциплины, спортподготовка, тренажи, просто работа и — караульная служба.
Сколько наматываешь, вышагивая по маршруту, за суточный наряд? Километров двадцать, двадцать пять. Сколько намотаешь за два года? Достаточно… Достаточно для того, чтобы однажды — на каком витке, в какое время года, в какой час, на каком шаге — проникло и впиталось в тебя, в твою душу, мозг, сердце тревожное и горькое чувство, вполне определенное и цельное — сопричастность.
Потом, по прошествии лет, лишь вспоминаешь его, делаешь усилие над собой, пытаясь спровоцировать его выход, и если плохо получается это, не расстраиваешься особо, не казнишься, зная доподлинно, оно в тебе — неистребимо.
Именовать это можно по-разному: совесть, гражданственность, долг, самосознание классовое, человеческое… Важна суть.
В армии суть обнажается.
Родился я в деревне, деревню помню плохо. Хотя казалось, хорошо помню, хорошо для памяти шестилетнего, в армии наконец иллюзия эта рассеялась, началось открытие и познание простейших составных: рассвет, закат, зима, лето…