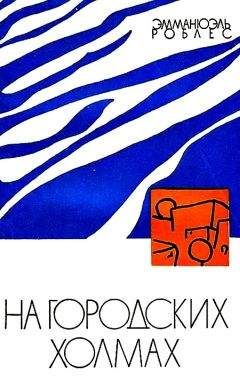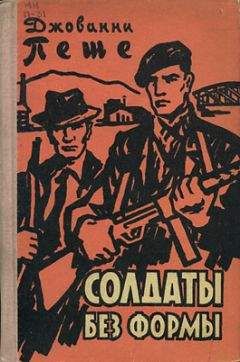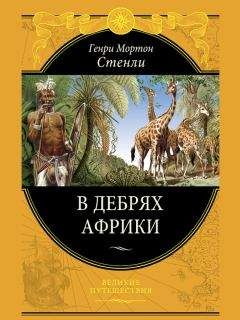Писатель сплетает судьбу Смайла с судьбами таких мужественных и храбрых патриотов, как Фернандес. И если прежде девятнадцатилетний юноша чувствовал себя жалким, одиноким, и беспомощным, то теперь он начинает задумываться над необходимостью организованной борьбы с угнетателями. Подходя к рынку, где собрались феллахи и рабочие, обманутые посулами Альмаро, Смайл спрашивает у самого себя: «Неужели здесь не найдется членов разогнанных рабочих партий, которые бы сорвали это сборище или по крайней мере отвратили бы от Альмаро тех, кого ему удалось убедить и обмануть?»
Альмаро — это собирательный образ, он подан в романе как олицетворение социального зла. Поэтому Смайл мстит ему не только как своему личному врагу, но и как заклятому врагу своего народа. Юноша-патриот убивает Альмаро с сознанием того, что этот его поступок, за который он сам, видимо, заплатит жизнью, послужит «уничтожению хоть маленькой толики той несправедливости и тех несчастий», которые навалились на народ Алжира.
4 марта 1962 года, в канун возобновления переговоров между временным правительством Алжира и Францией, в дни, когда бандиты ОАС особенно активизировали свою разбойничью деятельность, газета Коммунистической партии Франции «Юманите — Диманш» начала публиковать на своих страницах роман Э. Роблеса «На городских холмах». Книга Роблеса пережила свое новое рождение, она стала активным жизненным документом, опровергающим иллюзорные надежды колонизаторов сохранить свое господство в Алжире.
Какую бы книгу Роблеса ни взял читатель, он постоянно ощущает в ней присутствие и участие самого автора в событиях, о которых он повествует. Порой автора трудно отделить от героя произведения, он сливается с ним. Вместе с Сержем Лонгеро, героем романа «Везувий», он мучается над разрешением проблемы личного счастья и общественного долга, вместе с Монсерра он совершает высокий моральный подвиг; вместе с нами идет по жизни певца свободы Гарсии Лорки, вместе с патриотом Смайлом мстит угнетателям. Все это придает произведениям Роблеса исключительную силу правды, а порой даже историческую достоверность. Их согревают оптимизм, любовь к человеку, они утверждают светлые идеалы свободы и справедливости.
С. ЕМЕЛЬЯНИКОВНа городских холмах
(Роман)
Памяти моего друга
Ахмеда Смайли.
В то время, когда была написана эта книга, а именно в 1946–1947 годах, я преследовал вполне определенную цель: показать душевное смятение, охватившее тогда алжирскую молодежь. Книга эта должна была также пролить свет на некоторые устремления, вспыхнувшие с большей или меньшей силой и единодушием в разгар событий, которые меняли облик мира. Да и как, например, не признать, что французское Сопротивление оказало решающее влияние на большую часть алжирской молодежи?
В мае 1945 года, когда я находился около Штутгарта, до меня дошли первые слухи о восстание алжирцев в районе города Константина. В Европе едва начал затухать огромный пожар, а другой уже разгорался в моей родной стране, по ту сторону моря. И хоть он не был так огромен, его багровое пламя несло с собой те же несчастья.
На следующий год я возвратился в Алжир, и все, увиденное там, убедило меня, что пожар, залитый кровью тысяч и тысяч жертв, вспыхнет вновь с небывалой, всепожирающей силой. Людей можно убить, но идею, ради которой они идут на смерть, убить невозможно — и это знает каждый.
Будущее не сулило ничего хорошего молодежи Алжира. Сама сущность и структура колониализма говорили о том, что алжирцам предопределено биться об стену без всякой надежды проломить в ней выход в другой, более справедливый мир. А уже одно понимание этого, бесспорно, ведет к бунту. Кроме того, лучшие люди Алжира хорошо знали те силы, которые, презрев справедливость, поддерживали эту стену.
Не прошло и шести лет после опубликования романа «На городских холмах», как Алжир увидел жестокое лицо войны. Тысячи Смайлов, готовых с оружием в руках завоевать свои права, вырвались с факелами в руках из кромешного мрака окутывавшей их ночи.
В другом лагере на их зов откликнулись многочисленные Монсерра[1], которые томятся теперь в тюрьмах Казабианда и Константина лишь за то, что усомнились в справедливости той битвы, в которую ввергла их Франция.
Поверьте, не из чувства самолюбования я называю здесь имена героев моих книг. Я искренне убежден, что каждый писатель, если только его творения по-человечески правдивы, знает, что рано или поздно на одном из жизненных поворотов он встретит своих героев, «твердо стоящих на земле» и облеченных «в плоть и кровь», о чем постоянно твердил Унамуно[2].
И если я объединяю здесь Смайла и Монсерра, то делаю это лишь потому, что, с моей точки зрения, эти опаленные пламенем люди вышли из одного горнила — того самого, где человеческий разум кует для себя защиту от тяжелейшего из поражений, угрожающего ему, — отказа от самого себя.
(Э. Р.) Июль 1960 года.I
В понедельник вечером.
Один из этих гадов грубо втолкнул меня в комнату. Позади хлопнула дверь. Я вздрогнул и чуть не обернулся. Я остановился у двери, растирая запястья, но вот кто-то ударом кулака подтолкнул меня к столу. И тогда я увидел Альмаро. Облокотившись о массивный письменный прибор и зажав в пальцах ручку, он пристально смотрел на меня. Я сразу узнал его. Он растолстел. Свет лампы с зеленым абажуром придавал его лицу какой-то болезненный оттенок; на лбу и возле носа залегли тени, отчего лицо казалось застывшей маской, на которой, будто гипнотизируя, сверкали жесткие глаза. И в этом зеленоватом свете мне вдруг почудилось, что они живут сами по себе, вне связи с Альмаро, что они похожи на те стеклянные, выставленные в витрине аптекаря глаза, которые всегда вызывали во мне чувство тревожного любопытства.
Ему тоже видно было мое лицо, освещенное снизу, и он, должно быть, не узнал меня только потому, что губы мои были разбиты, а левый глаз заплыл. Здорово меня измордовали эти типы, захватившие меня врасплох, когда я сдирал их плакаты. Теперь они неподвижно стояли за моей спиной, и я слышал их хриплое дыхание.
Альмаро не сводил с меня глаз. Вот он поднес руку к губам, нахмурился: казалось, он роется в памяти, пытаясь вспомнить, где мог видеть меня раньше.
Я тяжело дышал, но старался взять себя в руки, сохранить спокойствие. Раз уж меня схватили, самое главное сейчас — стойко держаться перед врагами, тщательно взвешивать их вопросы и свои ответы. И хорошенько следить за своим голосом. Когда я волнуюсь, голос у меня срывается и становится вдруг каким-то гнусавым. И не усмехаться, ни за что не усмехаться! Впрочем, это и не так-то легко с моей распухшей физиономией. Особенно давала себя знать верхняя челюсть. Боль поднималась до самого мозга, пронизывая его тысячью иголок. Такое впечатление, будто под щекой огромная дыра, в которую врывается раскаленный воздух. Затылок нестерпимо ломило, словно и там открытая рана.
Я ждал.
В этой комнате с темными обоями, увешанной коврами и загроможденной поблескивающей полированной мебелью, до моего сознания, наконец, дошло, что я самый настоящий пленник, что я не принадлежу больше себе, что эти люди могут оскорбить меня, бросить в застенок, избить, что сопротивляться им бессмысленно. Совершенно бессмысленно! Мысль эта бесила меня. Я не боялся их кулаков, которые они, безусловно, пустят в ход, но я не мог, никак не мог безропотно покориться, окончательно признать свое поражение.
Молчание Альмаро становилось тревожным. Что он мне готовит? Какое наказание?
Ему, конечно, все рассказали. Он уже знал, что я «развлекался» — сдирал, со стен его плакаты, его красивые серо-голубые плакаты с огромными красными буквами. Они призывали алжирских рабочих вербоваться на работу во Францию, в Организацию Тодта[3].
Вспомнить противно, до чего же глупо я попался!
На углу остановилась машина. Из нее выскочили два каких-то типа и набросились на меня — я в эту минуту кромсал перочинным ножом плакат, только что наклеенный на стену. Удар был настолько неожидан, что я согнулся чуть не вдвое и упал на колени. Удар был тяжелый, мастерски направленный — словом, удар специалистов по таким делам. Мне показалось, что череп мой вот-вот треснет. Опомнился я только тогда, когда машина затормозила у виллы. Мысли в голове путались, во рту еще сохранялся какой-то противный, тошнотворный привкус. Не дав опомниться, меня сразу же поволокли сюда и поставили перед Альмаро. Перед плотным, откормленным, грозным Альмаро. Мне уже давно приходила в голову мысль, что в один прекрасный день я окажусь перед этой сволочью, работавшей на итало-германскую контрольную комиссию.