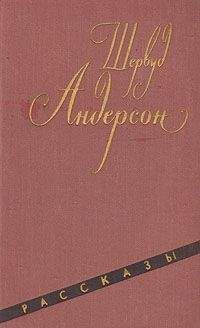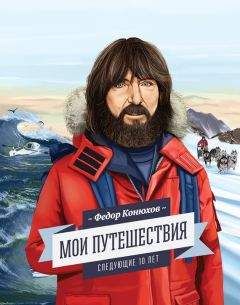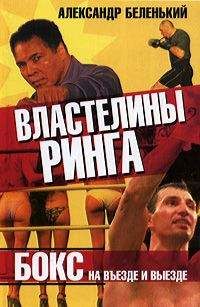Когда сидишь так утром у ипподрома, не у скакового ипподрома, а у одного из тренировочных, которых много вокруг Бейкерсвила, не часто увидишь таких лошадей, о каких я говорю. Но все равно там много любопытного. Любая чистокровка, происходящая от надлежащего производителя и хорошей кобылы и объезженная человеком, знающим свое дело, может скакать. Если бы она не могла, то место ей было бы не на ипподроме, а перед плугом!
Вот выводят из конюшен лошадей, а верхом на них конюхи. Как все это приятно. Сидишь, согнувшись, на верхушке ограды, а внутри тебя так и зудит. Невдалеке, в сараях, негры хихикают и поют. Жарится свиная грудника, и варится кофе. Все так чудесно пахнет. В такое вот утро нет, кажется, лучшего запаха, чем смешанный запах кофе, навоза, лошадей, негров, жарящейся грудинки, табачного дыма от трубок, которые выкуривают на свежем воздухе. Все это захватывает вас целиком.
Так вот, я говорил о Саратоге. Мы пробыли там шесть дней, и ни одна душа из нашего города не видела нас, и все сошло именно так, как нам хотелось. Прекрасная погода, лошади, скачки… Мы собрались домой, и Билдед дал нам с собой корзинку с едой: жареной курицей, хлебом и всякой всячиной. Когда мы вернулись в Бейкерсвил, у меня оставалось еще восемнадцать долларов. Мать отчитала меня и поплакала, но отец не стал много говорить. Я рассказал обо всем, что мы делали и видели, за исключением одного, свидетелем чему был только я. Об этом одном я и пишу сейчас. Этот случай расстроил меня, я думаю о нем по ночам. Сейчас все расскажу.
В Саратоге мы ночью спали, как я сказал, на сеновале, который указал нам Билдед. Ели вместе с неграми рано утром и по вечерам, после того как публика уходила с ипподрома. Наши бейкерсвильцы оставались большей частью на главной трибуне и у тотализатора и не показывались в тех местах, где держат лошадей, а приходили к загону только перед самым началом состязаний, когда лошадей седлали. В Саратоге нет загонов под навесом, как в Лексингтоне, и Черчил-даунзе, и на других ипподромах в наших местах; лошадей седлают на открытом месте, прямо под деревьями, на лужке, ровном и чистом, как передний двор банкира Бохона у нас в Бейкерсвиле. Там так чудесно! Лошади стоят потные, блестящие, нервно вздрагивая, а люди подходят, рассматривают их, курят сигары. Здесь же тренеры и владельцы лошадей, и сердце у вас колотится так, что дух захватывает. Но вот раздается сигнал горниста на выезд к столбу; выбегают жокеи в шелковых костюмах, и вы вместе с неграми бежите захватить место у ограды.
Я всегда мечтал стать жокеем или владельцем лошади и ходил к загону перед каждым состязанием, рискуя, что меня увидят, поймают и отошлют домой. Остальные мальчики не ходили, а я ходил.
В Саратогу мы попали в пятницу, а на следующей неделе в среду должен был разыгрываться большой гандикап Малфорда. В состязаниях участвовали Мидлстрайд и Санстрик. Погода в тот день была прекрасная, и грунт на ипподроме — твердый. Накануне я всю ночь не спал.
Надо сказать, что обе эти лошади как раз из тех, при виде которых у меня застревает комок в горле. Мидлстрайд длинный я выглядит нескладным; принадлежит он Джо Томсону, владельцу небольшого завода в нашем городе, там у него не больше пяти или шести лошадей. Заезд на приз Малферда был на одну милю, а Мидлстрайд не умеет разбежаться сразу. Он начинает медленно и первую половину пути всегда отстает, но потом набирает ходу, и если, например, заезд миля с четвертью, он помчится так, что земля задрожит, и непременно придет первым.
Санстрик совсем другой. Это жеребец, и притом очень нервный, он с самого большого конского завода в наших краях, принадлежащего мистеру Ван Ридлу из Нью-Йорка. Санстрик вроде девушки, которую иногда рисуешь себе в мечтах, но никогда не встречаешь в жизни. Он весь упругий и такой милый. Когда видишь перед собой его голову, хочется его поцеловать. Тренер его, Джерри Тилфорд, меня знает и не раз доставлял мне удовольствие: впускал в стойло, чтобы я мог посмотреть на лошадь вблизи, и всякое такое. Нет ничего милее этого скакуна. У столба он стоит спокойно, не выдавая себя, а внутри весь горит. И когда подымают барьер, жеребец устремляется вперед как солнечный луч, недаром его так и назвали. Он весь так напряжен, что на него больно смотреть. Он распластывается над землей и летит птицей. Я никогда не видал, чтобы лошадь скакала так, как Санстрик, за исключением Мидлстрайда, когда тот разбежится и скачет во весь опор.
Ух! И не терпелось же мне увидеть это состязание, увидеть скачку этих лошадей. Не терпелось, но и страшно было. Я не желал поражения ни одной из них. Мы никогда еще не посылали на скачки такой пары.
Так говорили в Бейкерсвнле старые люди, и негры тоже. Это было бесспорно.
Перед началом я побежал к конюшням посмотреть на лошадей. Бросив последний взгляд на Мидлстрайда, довольно неказистого, пока он стоит на месте, я пошел к Санстрику.
Это был его день. Я почувствовал это, как только его увидел. Я совсем забыл, что меня самого могут увидеть, и прямо подошел к нему. Все бейкерсвильцы были там, но, кроме Джерри Тилфорда, никто меня не заметил. Он увидел меня, и мы обменялись взглядами, которые много значили. Сейчас я расскажу.
Я стоял и смотрел на Санстрика, и у меня душа заныла. Мне было ясно я сам не знаю, как и почему, — чтО с ним творится. С виду он был спокоен и не мешал неграм растирать ему ноги, а мистеру Ван Ридлу самому надеть на него седло, но внутри он кипел как бурный поток. Он был весь как вода Ниагарского водопада, прежде чём ей ринуться вниз. Этот конь не думал о скачке. Ему это было ни к чему. Он только старался сдержать себя до того мгновения, когда наступит пора скакать. Я это знал. Каким-то образом я видел, что происходит с ним. Он собирался скакать с чудовищным напряжением, и я это тоже знал. Санстрик не рисовался, не гарцевал, не суетился, он просто ждал. Это понимал я и понимал его тренер Джерри Тилфорд. Я поднял голову, и глаза мои встретились с глазами этого человека. И вот тогда я пережил то, о чем хотел рассказать.
Должно быть, я любил этого человека в ту минуту так же сильно, как Санстрика, — ведь он понимал то, что понимал я. Мне казалось, что на всем, свете нет никого, кроме тренера, лошади и меня. Я заплакал, и что-то блеснуло в глазах Джерри. Затем я пошел к ограде ожидать старта. Конь был крепче меня, спокойнее и, как я теперь знаю, крепче Джерри. Он был самым спокойным из нас, а ведь скакать предстояло ему.
Санстрик, разумеется, пришел первым и побил мировой рекорд в скачках на дистанцию в одну милю. И мне довелось увидеть это своими глазами! Все вышло именно так, как я ожидал. Мидлстрайд отстал у старта, шел все время позади и финишировал вторым. Я так и знал. Он тоже когда-нибудь побьет мировой рекорд. Не переведутся в бейкерсвильских местах такие лошади!
Я следил за состязанием спокойно. Мне было все известно наперед! На этот счет у меня не было никаких сомнений. Генри Тарнер, и Генри Райбек, и Том Тамбертон — все волновались гораздо больше.
Со мной происходило что-то странное. Я думал о тренере Джерри Тилфорде, о том, какое счастье он должен был испытать во время этого заезда. В тот день я любил его больше, чем родного отца. Занятый мыслями о нем, я почти забыл о лошадях. И все из-за того, что я увидел в его глазах, когда он стоял возле Санстрика на лужке перед началом скачек. Я знал, что Джерри растил и воспитывал Санстрика с того времена, когда тот еще был крошечным жеребенком, что он научил его, как надо бежать, научил быть терпеливым, научил пускаться вовсю в нужный момент и никогда не отставать. Он должен был чувствовать то же, что чувствует мать, когда видит, что ее дитя совершает смелый или прекрасный поступок. Впервые в жизни испытывал я нечто подобное.
В тот вечер после скачек я ушел от Тома, Хенли и Генри. Мне хотелось побыть одному, а также хотелось, если удастся, побыть возле Джерри Тилфорда. И вот что случилось.
В Саратоге ипподром расположен почти на краю города. Он весь блестит, точно отполированный, а вокруг него деревья из породы вечнозеленых и трава. Вес сооружения покрашены и выглядят очень нарядно. Миновав ипподром, вы попадете на твердое асфальтовое шоссе для автомобилей, а когда пройдете по нему две-три мили, то заметите дорогу, сворачивающую к небольшому, подозрительного вида фермерскому домику, стоящему посреди двора.
Вечером после скачек я направился по шоссе, ибо видел, как Джерри и с ним еще несколько мужчин поехали этой дорогой в машине. Я особенно не надеялся найти их. Пройдя довольно большое расстояние, я сел у какого-то забора передохнуть и поразмыслить. Да, они поехали именно в этом направлении. Меня тянуло к Джерри. Он был мне дорог. Вскоре я встал и, не знаю почему, направился по боковой дороге, которая, привела меня к подозрительному дому. Я чувствовал себя одиноким, и у меня было сильное желание видеть Джерри, как бывает иногда ночью у малышей, когда они непременно хотят видеть отца. В эту минуту на дороге показалась машина и остановилась у дома. В ней сидели Джерри и отец Генри Райбека, затем Артур Бедфорд из нашего города, Дейв Уильямс и еще двое мужчин, которых я не знал. Они вылезли из машины и вошли в дом, все, за исключением отца Генри Райбека, который резко поспорил с ними и сказал, что не пойдет.