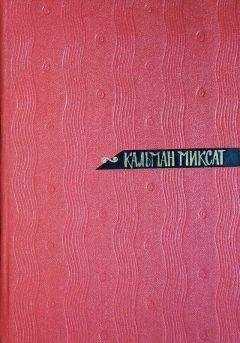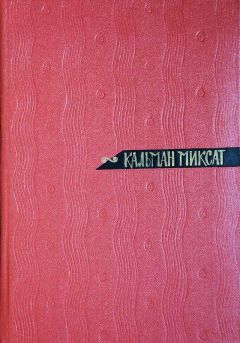Сергей Бабаян - Сто семьдесят третий
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Сергей Бабаян - Сто семьдесят третий. Жанр: Современная проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Сергей Бабаян - Сто семьдесят третий краткое содержание
Сто семьдесят третий читать онлайн бесплатно
Еще год назад от Речного вокзала до Планерной ходил двести тринадцатый; кроме того, от Сокола до Алешкино можно было добраться на сто втором – он останавливался на кругу, а от круга до ее дома идти было близко. На сто семьдесят третьем они не ездили никогда – кроме одного, первого – и, им казалось, последнего – случившегося по незнанию раза. Как называл его Саша, это был автобус убийца: перед гастрономом «Ленинград» он поворачивал на Беломорскую и медленно – казалось, часами – вязал длинную и узкую, обрывавшуюся на каждой минуте петлю, подавлявшую правобережного пассажира тягостной бессмысленностью движения в обратную сторону, – пока не возвращался на Ленинградское шоссе перед самым мостом, чтобы еще с четверть часа кружить на границе Москвы, пересекая кольцевую дорогу. После того первого, случайного раза, на который они решились, измученные бесконечным и бесплодным ожиданием двести тринадцатого, они были твердо уверены: больше – никогда. Но Бог – или дьявол? («проклятая ваша власть», – сказал как-то Саша, и она искренне удивилась: «моя?…») – решил по-другому.
В прошлом году маршрут двести тринадцать сняли – она не поверила, что это надолго, – успокаивая себя, а больше потому, что с практической стороны это показалось ей преступлением – или безумием: оба номера и так ходили самое частое раз в полчаса, и всегда – даже летом в воскресные дни, когда они просто ходили реже, – забивались так, что вспучивались облупившимися боками… Но двести тринадцатый сняли, а еще через месяц – удар, который она, оглушенная первым, почти не почувствовала, – перенесли с Сокола в Тушино конечную спасительного сто второго. От Речного в сторону Планерной шел еще сто девяносто девятый, который огибал Алешкино с противоположной им стороны; она думала ездить на нем – самые цифры Один, Семь, Три после нескольких петель вдоль Беломорской были ей ненавистны, – но наступила осень, алешкинские дворы погрузились в аспидную, кладбищенскую черноту, и ей стало страшно. Московские газеты со сладострастием запертого в анатомическом театре маньяка ежедневно расписывали, как в Москве насилуют, уродуют, убивают, – фотографировали полуразложившиеся трупы, отрезанные головы… – Саша категорически запретил ей сто девяносто девятый, да она и сама боялась: на автобусном кругу от века работал грязный пивной притон – который последовательно превращался из уличной забегаловки в пивную на два этажа, из пивной в ресторан, из ресторана опять в пивную, но истребить который было, видимо, невозможно – по крайней мере, не удалось ни при Брежневе, ни при Андропове, ни при Черненко, ни при Горбачеве, куда уж теперь… – и у входа в который неизменно толклись какие-то нечеловеческие, кошмарные лица – старые и молодые, бледные с просинью, как рыбье брюхо, и медно-красные, цвета остывающего металла, с губчатыми клубнями черных носов и глазами наркоманов и убийц, – страшно (а в добрую минуту больно, безысходно тоскливо) было смотреть; на дочку Светланы Васильевны, возвращавшуюся с курсов, напали прошлой зимой – хорошо, мимо проходил участковый, сам, кстати, похожий на непроспавшегося убийцу, – но помог, разбежались… Она стала добираться домой на Сто семьдесят третьем.
Они подошли к устало роившейся вокруг остановки толпе, блестящей чешуей мокрых и казалось однообразно черных зонтов. Сто семьдесят третьего не было, и она знала, что еще долго не будет. Он никогда не появлялся раньше, чем через четверть часа после ее прихода: это был закон, природу которого она объяснить не могла, но в нерушимости которого не сомневалась. Ноги уже промокли, промокло правое плечо, Саша стоял съежившись, втянув серую голову в плечи. На кончике его носа висела прозрачная капля – зонт протекал. Она машинально подняла левую руку и вытерла ему нос. Он чуть приподнял уголки небритого рта – сегодня с утра не побрился. Раньше такого не было.
Страшная наваливалась тоска – как будто холодный, мутный кисель обволакивал душу. Ревели автобусы. В толпе было много пьяных (привычно – устало-равнодушно – подумалось: на что люди пьют?…); один, в мокро набрякшей куртке – холодно было смотреть, – стоял в одиночестве у фонаря, по щиколотку в густо рябившей луже, и тазом совершал безостановочные вращательные движения – как будто его раскручивал невидимый маховик. Широкая, раскачиваемая ветром струя, лившая с крыши автобусной остановки, упруго хлестала его по голове, по спине, по плечам, попадала, наверное, за ворот… Чуть подальше кто-то, едва различимый в темноте, тяжко ворочался в грязевой луже: вырастал над смолистой гладью горбатой ломающейся спиной, подрагивал несколько секунд в зыбком, неверящем равновесии – и покорно и мягко валился назад, лоснясь жирно облитыми грязью плечами; две неустойчивые, волнообразные, как будто спотыкающиеся на месте фигуры стояли над ним, неуверенно протягивая к нему равнодушные руки… Она как будто почувствовала ладонями (и неожиданно, обжигающей дрожью – внутренней поверхностью бедер) ледяную жидкую грязь – и, мучительно передернувшись, отвернулась.
Ревели автобусы, казалось, из последних сил пробиваясь сквозь тягучую толщу дождя. Она знала, что бесполезно на них смотреть – Сто семьдесят третий вообще никогда не придет, сломается в пути или отменят, – и все равно не могла удержаться, смотрела, потому что упираться взглядом в неподвижную, казалось обмерзающую ледяною корой, без конца и края толпу было вовсе невыносимо. С реактивным пением двигателя, высоко подняв сухое, гибкое тело на упругих дисках колес, проплыл служебный львовский автобус с редкими снисходительными головами – пружинисто покачнулся на ухабе, как будто застигнутый волной тяжкой ненависти, плеснувшей из тысячеглазой толпы, выправился легко и полетел, улыбаясь, к млечному пути Ленинградки. Прогрохотал, раздавливая асфальт, чудовищный грузовик, дрожа от избытка скованных городом первобытных, яростных сил колючими ребрами кузова. По-змеиному шипя, скользнула, отдуваясь, к обочине длинная светящаяся гармошка сто девяносто девятого… люди полезли, как на крепостную стену, замелькали над поручнями дрожащие руки и головы. На двойные автобусы пассажиры Сто семьдесят третьего смотрели равнодушно – или не смотрели вообще: Сто семьдесят третий всегда был старым, одиночным вагоном… Сто девяносто девятый, задыхаясь от злобного напряжения, суставчатыми дверями вмял в свое распираемое нутро последних людей. В центре огромной площади, там, где беспросветным черным плато сгрудились ожидавшие расписания автобусы пригородных маршрутов, взвыло медноголосой сиреной. Фестивальная на всю свою сумрачную, мигающую истощенными фонарями длину была безнадежно пуста. Сто семьдесят третьего не было.
«Плохо, Елена Анатольевна, – сказала она себе. – Очень плохо».
Плохо казалось все – давило на душу мокрой холодной тяжестью, которую в сознании трудно было даже разделить на составные части – трудно уже потому, что одно отделенное плохо тут же цепляло за собой и начинало разматывать бесконечную цепь неудач, ошибок, унижений, обид… Наверное, самое плохое, с усилием признавалась она себе, было все-таки то, что не было денег. Это простое, проклятое «не было денег» (которых, если правду сказать, раньше тоже не было) раскладывалось на множество болезненных – ноющих – мыслей-ощущений. Во-первых, их было просто мало – так мало, как никогда, наверное, не было: когда мясо стоило два рубля килограмм, она получала сто двадцать, сейчас мясо стоило тысячу, а она зарабатывала двадцать пять… Во-вторых, это «мало» никогда не ощущалось ею так унизительно: ее труд – труд, который она молчаливо, глубоко про себя уважала, – приравнивался сейчас к трем килограммам сырокопченой колбасы или шести бутылкам импортной водки. В-третьих (газеты, радио, телевизор называли это завистью, оправданием своей неумелости, даже «агрессивностью маргинального люмпена» – пусть их!), – в-третьих, было то, что в наступившей жизни, каким словом ее ни называй, преуспевали дурными средствами и только дурные люди – впрочем, так было всегда: недавно ей пришла в голову мысль, что в этом отношении Жизнь нисколько не изменилась… то есть изменилась, но только в количественную сторону: преуспевали (слово-то какое!) те же самые люди, что и раньше, – но только с несравненно, несопоставимо большим размахом. Если раньше ее директриса, статная, высокогрудая, холодноглазая, с греческим профилем и голубоватыми от ранней седины волосами женщина (которая стала директором потому, что была членом партии, а школьный товарищ ее мужа был чуть ли не заместителем министра просвещения), носила каракулевую шубу, а она – пальто с коротким песцом, – то сейчас у директрисы появилась машина, которая стоила несколько миллионов (сумму, которую Лена даже сейчас представить себе не могла), а у нее не появилось вообще ничего… Откуда взялись эти миллионы, все знали или по крайней мере догадывались. Под школой – торжественной барельефно-кирпичной постройкой начала пятидесятых годов – тянулись лабиринты обширного бомбоубежища, которое открывалось в полуподвальный спортивный зал и началом своим служило для детей раздевалкой. В самый разгар перестройки бомбоубежище сдали в аренду какой-то фирме под склад… «школе нужны деньги, – говорила Валерия Николаевна с видом государственным и строгим (в этот момент она была похожа одновременно и на Фурцеву и на скульптора Мухину с нестеровского портрета), – в роно с пониманием отнеслись к предпринятым нами (нами! – Лена.) шагам на пути к экономической самостоятельности школы…» – тон ее в сравнении с партсобраниями застойных времен ни на йоту не изменился. «Школе нужны деньги», – говорила Валерия Николаевна, льдисто поблескивая серо-голубыми, в смоляной оторочке ресниц глазами, и завуч Ленина Константиновна согласно – сокрушенно (торговцы в храме – но что поделать!) и озабоченно – кивала крупной, по-мужски стриженной головой. И действительно, в первый же год отремонтировали актовый зал (не циклюя, покрыли лаком насквозь проеденный чернью паркет и побелили облупившуюся лепнину), а Валерия Николаевна купила себе «Жигули». Завуч Ленина Константиновна в тот год приобрела японский видеомагнитофон – об этом всей школе по секрету рассказывала Настя, завхоз, наверное, обиженная тем, что ей достался отечественный цветной телевизор… Впрочем, справедливости ради – в отношении наступивших времен – надо сказать, что и в прошлые – брежневские, андроповские и так далее – догорбачевские годы после каждого летнего ремонта на даче у Валерии Николаевны (Ирина Петровна, обиженная биологичка, ездила специально смотреть) вырастал то сарайчик для садового инвентаря, то балкон с перилами-столбиками, то новый забор из острого, молодого штакетника, а уж сам финский домик, с постоянством прихода весны, ежегодно расцветал – вслед за школьным крыльцом – свежей лазурной краской… Ничего не изменилось – масштаб увеличился. (Володя, старинный Сашин приятель, филолог из какого-то Богом забытого института, который они в застойные годы насмешливо – но и немного завистливо – называли «Володиной синекурой», – приходя к ним в гости и стремительно напиваясь (в последнее время он много пил), неизменно шипел под конец, размахивая тонким, как карандаш, кривоколенчатым пальцем: «Коммунистам нечего было терять, кроме своих партбилетов, приобрели же они весь растерявшийся мир! – кривился бледным, жилковатым, остроугольным лицом, слезился страдающими глазами: – Р-революция? Покажите мне, кто был против! Н-нет, ты покажи! Все – за! Раньше он за ежемесячную баночку черной икры столько был должен перелизать… ты извини меня, ну, извини, Ленуля! – а сейчас он на „мерседесе“… м-миллионер! Да им просто мало показалось! Революция, сопротивление – перестройке?! Покажите мне хоть одного райкомовца, кто пострадал!…») Наверное, так оно и было, и ничего поделать было нельзя… иначе, наверное, и быть не могло. Старая Клавдия Александровна, историчка, в которой раньше заискивала не только вся школа, но и роно, потому что в четырнадцать лет она была связной в партизанском отряде, – каким-то чудом не умерла, когда во время перемены на ее стол положили латвийскую газету с карикатурой, на которой была нарисована раздавленная в слякоть – сапогом перестройки – змея с ленинской головой; но когда по школе забегали стриженные ежиком парни с говяжьими лицами в обнимку с разноцветными коробками пива и сигарет, – на которых, открыв рот, смотрела восхищенная и готовая ради пачки резинки на все пионерская детвора, – не выдержала и пошла к директору: «Я не знаю, что сейчас строят, социализм с человеческим лицом или капитализм, – но у нас пока школа, а не нэпманская лавка!…» Что ей ответила директриса, осталось неизвестным, но на следующий день старуха пошла в роно – из которого в школу уже не вернулась: к вечеру попала в больницу, а из больницы сразу вышла на пенсию. Впрочем, нельзя сказать, чтобы о ней жалели: от старой партизанки, с ее субботниками, воскресниками, вечерами памяти и ленинскими уроками, от которых, как от пули, увернуться было нельзя, – всегда можно было ожидать только возложения какой-нибудь бессмысленной, тягостной, съедающей жизнь обязанности… И так было везде. В безнадежно пустующем кинотеатре кассовый зал отдали под выставку-продажу «Жигулей»; она сначала не понимала, как это так, – потом поняла: ах да, ну конечно, в кинотеатре своя директриса, и конечно по согласованию с роно… или что там у них – в кинотеатре? В аптеке центральный прилавок занял коммерческий магазин; теперь там висели кожаные пальто, одни проценты от продажи которых, наверное, равнялись аптекарской выручке, и сидел молодой человек, с обязательным ежиком на удивительно маленькой (как у древнего ящера диплодока) рядом с могучими шеей и туловищем голове, – а в оставшихся двух отделах всегда стояла уже генетически терпеливая старушечья толпа, испуганно поглядывая на буйство цветов и форм коммерческого прилавка… Даже в их доме подвал отдали под склад кавказцам, и в подъезде теперь круглый год стоял пряный запах осеннего сада. Еще одна директриса из «жекрэудэза», как называл его Саша в проклятые счастливые застойные времена, кладет себе деньги в карман, – а на этажах скоро не останется ни одной застекленной рамы…
Похожие книги на "Сто семьдесят третий", Сергей Бабаян
Сергей Бабаян читать все книги автора по порядку
Сергей Бабаян - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.