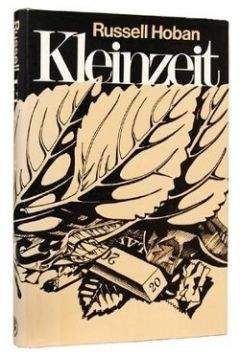Она обошла их в сопровождении тележки с лекарствами, грациозно покачиваясь на своих высоких туфлях, распространяя облако милосердия и желания. «Ах!» — завздыхали они. «Ох!» — застонали они. Глубоко принялись они вдыхать свой кислород, тихонько мочась в бутылки, запрятанные под простынями. На какой же койке он окажется? — думала Медсестра.
На улице был дождь, и свет в помещении был серебристый, музыкальный. Потолок, точно крышу викторианского вокзала, украшали витиеватые узоры. Такие свеженарисованные кремовые викторианские узоры, похожие на коленки. Серебристое освещение, зеленые одеяла, белые простыни и наволочки, пациенты каждый на своем месте, молоденькие сиделки, одетые в голубое и белое, все прибранное, готовое услужить. Все опрятное, подумала Медсестра. На какой же койке он окажется?
— Ну, как идут дела? — спросил Директор по творческой части, человек с бачками.
— Думаю, мне это удалось, — ответил Кляйнцайт, человек с перхотью. — Начинается с того, что мужчина толкает перед собой тачку, полную клади. Никакой музыки, слышно только его дыхание да скрипение тачки да стук клади. Изображение переходит в крупный план. Мужчина широко улыбается, лезет в карман, достает оттуда тюбик «Бзика» и, ничего не говоря, выставляет его вперед. Что вы об этом думаете?
Директор опустился в кресло, его и без того тесные брюки натянулись, он не стал закуривать, потому что вообще не курил.
Кляйнцайт закурил.
— Подход как в cinema veritе[1] — объяснил он.
— А почему именно тачка с кладью? — спросил Директор, который был на десять лет моложе Кляйнцайта.
— А почему бы и не тачка? — ответил на это Кляйнцайт. Он остановился и подождал, пока боль пробежит от А до В. — Тачка сгодится так же, как и любое другое. Она лучше уймы разных вещей.
— Вы уволены, — натянуто произнес Директор.
— Гипотенуза — довольно странный орган, — сказал доктор Налив, сидя в своей хирургической клинике на Харли–стрит. Доктору Наливу было лет пятьдесят пять, и выглядел он как истый джентльмен, который и другие полсотни лет пробежит, даже не задохнувшись. Журналы в его приемной потянули бы фунтов на 200. Его клиника была оснащена коробочкой пластыря, иглой для взятия образцов крови, полочкой с пробирками и электрическим камином времен Регентства. Был у доктора Налива и стетоскоп. Он осмотрел его, щелчком стряхнул остатки прилипшей серы. — Мы чертовски мало знаем о гипотенузе, — произнес он. — Да и о диапазоне тоже. Вы можете всю жизнь прожить, даже не узнав про них, но уж если они дадут о себе знать, то неприятностей не оберешься.
— Так, может, и говорить не о чем, а? — спросил Кляйнцайт. — Просто небольшой приступ от А до В. — Тут его пронзило снова, точно раскаленным железным прутом, насквозь. — Просто небольшой приступ от А до В, — выговорил он. — Слушайте, может, у всех это есть, а?
— Нет, — сказал доктор Налив. — Едва ли три случая в год наберется.
Три случая чего, хотел спросить Кляйнцайт, но сдержался.
— И ничего серьезного? — спросил он.
— Как у вас со зрением? — задал вопрос доктор Налив. Он раскрыл папку с данными Кляйнцайта, заглянул в нее. — Мушки, точки плавающие не замечали?
— А у кого их нет? — сказал Кляйнцайт.
— А со слухом как дела обстоят? — спросил доктор Налив. — Слышали когда‑нибудь такой шум в абсолютно тихой комнате, будто пузырьки лопаются,?
— Я думал, это акустика, — сказал Кляйнцайт. — В смысле, в комнатах действительно лопаются пузырьки, когда стоит тишина, разве не так? Такое едва различимое тонкое шипение.
— Давление у вас хорошее, — сказал доктор Налив, все еще глядя в папку с данными. — Давление ваше совсем как у молодого.
— Я бегаю каждое утро, — сказал Кляйнцайт. — Полторы мили.
— Хорошо, — сказал доктор Налив. — Мы оформим вас в госпиталь прямо сейчас. Завтра для вас подойдет?
— Отлично, — сказал Кляйнцайт. Он выдохнул, откинулся в кресле. Потом снова выпрямился.
— Почему я должен ложиться в госпиталь? — спросил Кляйнцайт.
— Лучше понаблюдать за вашим состоянием, — сказал доктор Налив. — Пройти несколько анализов и все такое прочее. Не о чем особо беспокоиться.
— Ладно, — сказал Кляйнцайт.
Тем же днем он купил пару довольно вызывающих на вид пижам, отобрал со своих полок книги, чтобы было что читать в госпитале. Положил в сумку «Размышления о Кихоте» Ортеги–и-Гассета. Он уже читал эту книгу и вряд ли стал бы читать ее снова. Фукидида он пожелал нести в руке.
— Ах! — застонала Медсестра в объятьях доктора Кришны. — Ты занимаешься любовью, как бог, — сказала она позже, когда они лежали рядом, куря в темноте.
— Выходи за меня, — сказал доктор Кришна. Он был юн, смугл, красив и талантлив.
— Нет, — ответила Медсестра.
— Кого ты ждешь? — спросил доктор Кришна.
Медсестра пожала плечами.
— Я видел, как ты обходила свою палату, — сказал доктор Кришна. — Ты ждешь, что когда‑нибудь на одной из этих коек появится мужчина. Ты что, ждешь, когда заболеет какой‑нибудь миллионер?
— Миллионеров не держат в таких палатах, — сказала Медсестра.
— А что тогда? — спросил доктор Кришна. — Какого человека ты ждешь? И почему обязательно больного? Почему не здорового?
Медсестра пожала плечами.
Утром ее неизменные черные сестринские туфли отнесли ее в палату А4. В койке у окна лежал Кляйнцайт и смотрел на нее так, точно видел всю ее насквозь, до самого Маркса, Спенсера и так далее.
Ну нет, пронеслось в голове у Кляйнцайта, когда он завидел Медсестру, это уж слишком. Даже если бы я был здоров, что маловероятно, даже если бы я был молод, чего уже не вернешь, слишком сильно это искушение и лучше бы ему не поддаваться. Да она меня даже в арм–рестлинге на обе лопатки положит, чего уж там пытаться прицениваться к ее бедрам? Он тут же приценился к ее бедрам и почувствовал, как в нем нарастает паника. За паникой прозвучала боль, точно дальний рог в бетховеновской увертюре. Да я, похоже, герой, удивился Кляйнцайт и осушил стакан оранжаду.
Медсестра притронулась к его табличке, заметила Фукидида и Ортегу на тумбочке.
— Доброе утро, мистер Кляйнцайт, — произнесла она. — Как вы сегодня себя чувствуете?
Кляйнцайт был рад, что на нем вызывающая пижама, что с ним Фукидид и Ортега.
— Спасибо, прекрасно, — ответил он. — Как вы?
— Ничего, спасибо, — сказала Медсестра. — Кляйнцайт, это что‑то такое по–немецки?
— Герой, — ответил Кляйнцайт.
— Я была уверена, это будет что‑нибудь подобное, — сказала Медсестра. Возможно, ты, сказали ее глаза.
Боже милосердный, пронеслось в голове у Кляйнцайта, а я еще и безработный.
— Я хочу взять у вас немного крови, — произнесла Медсестра и погрузила свой шприц в его руку. Кляйнцайт расслабился и дал течь чувствам.
— Спасибо, — сказала Медсестра.
— Когда угодно, — ответил Кляйнцайт.
Вот так, подумал он, глядя как она уходит и уносит его кровь, теперь только вперед. Он сел на краешек своей койки и стал смотреть на соседний монитор. По нему слева направо бежали световые сигнальчики, появлялись слева и исчезали справа, появлялись и исчезали. Они что же, быстро обегают аппарат и появляются снова? — удивился про себя Кляйнцайт.
— Захватывает, да? — спросил молодой человек, лежащий на соседней койке. — Кого‑то может это задеть — они что же, так и будут бежать? И никогда не остановятся?
Он был очень тонок, очень бледен и выглядел так, словно мог вспыхнуть и сгореть в один миг.
— Вы с чем тут? — спросил Кляйнцайт.
— Расширенный спектр, — ответил готовый воспламениться. — Если наступит гендиадис, то все может закончиться… — тут он даже не прищелкнул пальцами, а издал короткое шипение, — …вот так.
Кляйнцайт хмыкнул, покачал головой.
— А что у вас? — спросил Легковоспламеняющийся.
— Я, вообще‑то, не болен, — сказал Кляйнцайт. — Явился на анализы, что‑то вроде этого.
— Вы точно больны, — определил Легковоспламеняющийся. — По виду гипотенуза. И чуточку диапазона, возможно. Мочитесь в две струи?
— Ну, когда твое белье весь день перекручено… — смутился Кляйнцайт.
— Держитесь того же и впредь, — ободрил Легковоспламеняющийся. — Не падайте духом. Я, знаете ли, говорю по–немецки.
— Здорово, — сказал Кляйнцайт. — Я нет.
Легковоспламеняющийся вновь издал шипение.
— Только без обид, — сказал он. — Может, замечали, что люди с годами начинают выглядеть иначе. Меняются, похоже, одни болваны.
— Болваны, — сказал Кляйнцайт. — Ну да.
— Сначала болваны в витринах, — объяснил Легковоспламеняющийся, — потом люди.
— Никогда не думал, что кто‑нибудь, кроме меня, это замечает, — сказал Кляйнцайт. — Болванов, возможно, создает Бог. Человек создает людей.