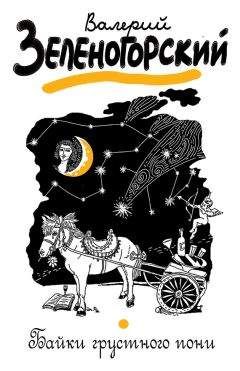Занзибар в посттравматическом синдроме
Летом в Париже жарко, кондиционеры не справляются с июльской жарой и не спасают от духоты. В сердце Парижа, на Елисейских Полях, в зале «Олимпия», были гастроли ансамбля донских казаков — они выступали по приглашению парижской мэрии. Мой товарищ был спонсором этого шоу, а я продюсером. Казаки пели и плясали, французы были счастливы, что те вошли в Париж не с пиками и ружьями, как когда-то после войны 12-го года, а, наоборот, услаждали французов на сцене за жалкие копейки. Спонсор, мой товарищ, жил под Версалем в собственном доме с красавицей женой и двумя собаками — мопсом, которого звали мистер Паг, и дико нервной собачкой по кличке Моня. Дом был хорош: бассейн, терраса, повар-сенегалец, знавший русский после Патриса Лумумбы, где он учился на медика, но врачом не стал, торговал наркотой и научился готовить в мордовском лагере для иностранцев, в Сенегал не вернулся, шлялся по Европе, осел в Париже и попал к моему товарищу в дом за добрый нрав, матерные песни и поговорки собственного сочинения: «На безрыбье и жопа соловей», «На бесптичье и х… водопровод» — и отменный вкус в приготовлении еды в стиле фьюжн. Казаки уехали в Марсель, а друг устроил ужин для близких — отметить медаль парижской мэрии за вклад в дружбу народов. За столом собралась живописная компания — друг с женой; его французский партнер, сахарный брокер с женой, моделью из Алжира; русская пара из Питера, эмигранты первой волны, живущие в Луизиане, глухой провинции Америки; мама-профессор друга из Нью-Йорка со своим бойфрендом семидесяти лет, еврейским дедушкой из Челябинска, уехавшим двадцать пять лет назад с должности замначальника литейного цеха трубного завода. Особо привлекала одна пара — это был управляющий бизнесом моего друга, албанец из Косово с женой-израильтянкой, жившей до выезда из СССР в Белой Церкви под Киевом. Мама друга была в восторге от концерта, ей понравилось все — сын, его новая жена, Париж, дом и все вокруг, она была счастлива успехами сына, своим здоровьем и своим другом из Челябинска, несмотря на духовную пропасть между ними. С годами интеллектуальные разночтения супругов утихают, а сочувствие и добросердечие становятся главным. Поданная вовремя таблетка важнее, читал ли или не читал человек Марселя Пруста, которого мама переводила в России в семидесятые годы. Стол трещал от еды по русскому обычаю. Там было все вперемежку — селедка, устрицы, миноги, омары, капуста, русская водка «Русский стандарт», розовое шампанское «Кристалл» для юной жены и, конечно, вино, лучшее и дорогое. Вечер был теплым, сидели у бассейна на террасе, шутили, смеялись, говорили тосты по-русски в очередь, длинно, пронзительно, со слезой. Разговор был сумбурным. Первый звонок прозвучал, когда я вспомнил о певце Ф. Меркури и процитировал из песни «Мы чемпионы». Жена управляющего из Белой Церкви громко, на весь стол, заявила, что Фредди не умер, что он не гей и она видела его восемь месяцев назад в Занзибаре, где он, уйдя на покой, счастливо живет со своей женой-малайзийкой и двумя прелестными детьми. Все удивились, но из вежливости промолчали. Я решил восстановить историческую справедливость и заявил, что разговаривал год назад с Брайеном Мэйем, гитаристом «Queen», и он сам рассказывал мне, как он провожал Фредди в последний путь. Мне ответили, что это был сговор и постановка. Вторая тема была еще острее. Девушка сказала, что украинцы — это не южные славяне, а выходцы из Ирака, то есть потомки персов, основной тезис — это усы запорожцев, а бледность кожи — это патогенная мутация от засилья москалей. Это съесть тоже было нельзя — за столом сидел чистокровный хохол, которому не понравилось данное исследование, и он разбил в пух и прах персидское происхождение его предков, но выдвинул более яркую версию, что украинцы вообще ни на кого не похожи, что они инопланетяне и он видел под Волынью остатки корабля, на котором, как на ковчеге, по Днепру приплыли первые украинцы. Я решил перевести тему в более спокойное русло, заметив, что албанец сидит бледный, машет своей жене, чтобы она перестала кошмарить стол своими изысканиями. Я предложил обсудить свою теорию: чем мужчины отличаются от женщин, — и только открыл рот, как справа со скоростью спринтера полетело такое, что я онемел. Бывшая киевлянка, перебив меня, стала излагать теорию кратности отверстий. Конспективно это следующее: у мужчин два глаза, два уха, две ноздри и так далее. Я с ужасом подумал, как теория ее перейдет в нижнюю часть тела, так как разница в возрасте гостей и религиозные отличия могли привести к непредсказуемым последствиям, но науке все под силу. Описывая свое отверстие между ног, она назвала его нежно «нижней улыбкой», и я понял, что улыбаться она любит и, наверное, умеет. Муж ее, зная за ней это мастерство, умолял ее не рассказывать ее методы. Потом был рассказ, что у нее есть третий глаз, но показать здесь ей неудобно, мне было предложено, как авторитетному эксперту, отойти за угол, где я смогу в этом убедиться. Моя жена твердо сказала, что этому не бывать, и наступила мне на ногу острым каблуком, похоронив одним уколом мои желания. Ответный ход был стремительным — она сказала, что я гомофоб и латентный педераст. Дядя Гриша из Челябинска спросил у жены-профессора, что это такое. Ответа не получил, но не обиделся — его мучил более важный вопрос ко мне. Он услышал, что я недавно был в Челябинске, на его любимой родине, где он не был двадцать пять лет, и город и его завод снились ему каждую ночь в цветном изображении. Его насильно увезла дочь за светлым будущим в Америку, он не хотел, замначальника литейного цеха на хорошем счету, любимый своими рабочими. Америку он не любил, не понимал языка, не любил негров, латинов, китайцев. Они все вместе не любили его, но он об этом не знал. Жена умерла, дочка с внуком переехала в Канзас, он жил один в Квинсе, брошенный и никому не нужный. В синагоге он встретил на бармицве (праздник совершеннолетия мальчиков) у своих дальних родственников маму моего друга, они стали жить вместе, но он был грустен всегда и мечтал о своем литейном цехе, где он два раза висел на Доске почета и мечтал о должности начальника. Человек он был трезвый, понимал, что он еврей и беспартийный и его никогда не назначат, но мечтал. В перерыве застолья он робко спросил меня, как Челябинск, то да се, потом долго молчал, сглотнул нервно и спросил меня, а мог ли бы он после перестройки, когда отменили шестую статью Конституции о правящей роли КПСС, получить место начальника цеха. Вопрос меня убил. Прошло уже двадцать пять лет, он прожил другую, новую, жизнь, и тем не менее его жизнь осталась там, среди труб и башен пролетарского Челябинска. Я твердо сказал, что, конечно, да. Его голос задрожал, в глазах были слезы, он понял наконец, что у него украли жизнь и нет счастья с обеих сторон Тихого океана. Я хотел рассказать ему в утешение, что его сверстники с пенсией в 70$ догнивают на койках районных больниц, что не только Париж, но и Свердловск они никогда не видели, а он, гладкий, ухоженный американский старик, объездивший весь мир, должен плакать от счастья, что не сгнил, но эти слова ему были не нужны — он плакал, и лицо его было мертвым. Я вспомнил в этот момент своего папу, он тоже был заместителем, но он не мечтал быть директором, потому что знал: так не будет никогда. Он умер, не дождавшись перемен, и кто знает, что он сказал бы мне сегодня про новую жизнь. Застолье завершилось поздней ночью, все разошлись по гостевым комнатам, у бассейна остались я и муж-албанец звезды вечера. Мы с ним выпили, он долго извинялся за супругу, за ее речи и темперамент, сказал, что она только три года такая — после взрыва в супермаркете в Хайоре, где они жили в Израиле. «Посттравматический синдром», — сказал мусульманин-албанец и заплакал, не сдерживая себя.
Слезы, слезы — везде, каждый день. Когда это все кончится?
Таня — девушка серьезная, фамилия обязывает: Лермонтова — ее фамилия по матери. Ничего шотландского в ней нет, но мимо нее не пройдешь, не промахнешься. Ей около сорока, сыну — двадцать, мужей было шесть, и все любимые, — она набирала их, как бусы, за двадцать лет, никто из них не забыт, и ничто не забыто. Есть люди, которые каждую половую связь оформляют нотариально — наш случай не тот. В юности Лермонтова была любима во дворе и школе за смех и спортивную подготовку. Семья ее была простая, жила она в Перове без излишеств и особого к себе внимания родителей. Все детство провела с ключом на шее: родители работали, а наша Таня была сама по себе: сама училась, сама ездила на спорт, к учителю по английскому. Учитель по английскому в седьмом классе научил ее целоваться по-французски, приласкал ее так, что к концу второй четверти Лермонтова потеряла свою пионерскую честь с легкостью и без слез. Она влюбилась в этого аспиранта-педофила с трепетом молодого сердца и до каникул два раза в неделю изучала английский, лежа на диване в объятиях новогиреевского Набокова. На удивление, английский давался неплохо: есть такая техника изучения — любовь с носителем языка. За летние каникулы любовь на расстоянии ушла в песок. Но простоя талантливому сердцу Лермонтова не давала. На спортивных сборах в Адлере тренер сборной Азербайджана по кличке Мохнатый Шмель нашел путь к сердцу и телу Лермонтовой под шелест струй в душевой на свежем воздухе. Лермонтова опровергла «кавказский цикл» однофамильца, отдалась сыну Кавказа с северной страстью. Целомудрие ее было удивительным. Если кто-то появлялся в ее сердце, то остановить ее было невозможно. Всю жизнь она любила мужчин сильно, с самопожертвованием настоящей женщины. После школы она легко поступила в мужской вуз, дружила со всеми, но любила старшекурсника, бабника и теннисиста, из семьи руководителя, который шел по жизни под парусом с попутным ветром. Он и стал ее первым мужем, инициатива была его. Родители жениха уезжали в Африку по контракту строить очередной объект в стране бананового социализма с нечеловеческим лицом. Родители его тоже не возражали — меньше будет болтаться, да и девочка их устраивала: скромная, семья порядочная, будут жить без пьянок и гульбы. Свадьба была пышная, в зеркальном зале «Праги». Поели, попили, и Лермонтова из двушки в Перово впорхнула в апартаменты высотки на площади Восстания на тридцатом этаже с видом на всю Москву. Если взять бинокль в кабинете свекра, то можно было увидеть родное Перово, где остались мама с папой, любимые и родные. Скучать не приходилось, убирать этот стадион было непросто. Домработница, всю жизнь пахавшая в этой квартире, заболела артритом, новую не взяли — пусть молодая жена начинает жизнь как положено. Как было положено, Лермонтова не знала, ее папа всегда помогал по дому, носил сумки, пылесосил под песни В. Высоцкого. Песня «Привередливые кони» давала ему такой прилив энергии, что он успевал за время звучания этого хита вымыть пол в двушке на одном дыхании. Таня не была белоручкой, но пахать даже на любимого, как Золушка, было как-то не в жилу. Мальчик ее любимый бросал трусы и носки где попало, требовал чистых рубашек каждый день и заставлял ее чистить до блеска его многочисленную обувь. Он привык, что за ним ухаживают с детства няня, мама, домработница, и он хотел, чтобы так было всегда. В непосредственной близости мальчик оказался весьма капризным: ковыряя утром омлет, приготовленный ею, он морщился: не так прожарен, батон несвеж, масло не вологодское, — ну, в общем, барчук и самодовольный павлин. Он относился к ней немножко свысока — элита, е. т.м.