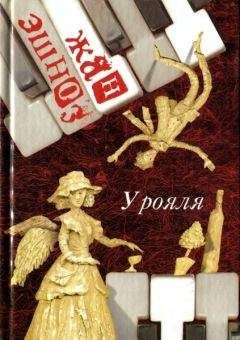Отяжелев от усталости, но напрочь забыв свой страх, Макс поднялся в артистическую, заваленную букетами.
— Это еще что такое! — взвился он. — Ты же знаешь, я терпеть не могу цветов, убери их отсюда.
— Да, да, конечно, — сказал Берни, поспешно собрал букеты и удалился, нагруженный ими, как катафалк.
Макс опустился на стул перед зеркальным столиком, на котором царил беспорядок. В глубине зеркала отразился Паризи, промокавший шею бумажной салфеткой.
— А, вы здесь, — не оборачиваясь, сказал Макс и собрался расстегнуть рубашку.
— Это было бесподобно, — улыбнулся импресарио.
— Знаю, — сказал Макс, — знаю. Но мне что-то больше не хочется играть этот концерт, я устал от него. К тому же оркестровая партия здесь довольно слаба, сразу видно, что Шопен не слишком умел писать для оркестра. Да и вообще, хватит с меня оркестров. — Он расстегнул верхнюю пуговицу, она оторвалась и исчезла среди беспорядка, царившего на столе.
— В любом случае, — согласился Паризи, подойдя поближе, — до лета у вас только сольные концерты, вы же помните, в Берлине.
По-прежнему не оборачиваясь и продолжая искать сбежавшую пуговицу, Макс увидел, как в зеркале за его спиной выросла массивная расплывшаяся фигура в двубортном пиджаке: Паризи вечно потел, он носил большие очки, лицо у него было подвижное и приторное, а голос — тонкий и пронзительный.
— Напомните мне программу, — сказал Макс.
— В конце недели у вас концерт в Нанте, — засвистел Паризи, — девятнадцатого — сольный концерт в зале Гаво, и до выступления на телевидении больше ничего. Да, и еще: снова звонили японцы. Они хотят знать, когда вы сможете возобновить запись полного собрания произведений Шоссона. Они хотят знать точную дату, чтобы зарезервировать студию Серумена.
— Мне надо подумать, — проговорил Макс, — я сейчас не готов.
— Но они хотели бы поскорее определиться, — настаивал Паризи, — у них ведь тоже свои планы.
— Мне надо подумать, — повторил Макс, — я хочу пить. А где малыш? Куда он подевался?
Малыш уже вернулся без цветов и стоял у входа, ожидая распоряжений.
— Берни, мне бы стаканчик, — по-прежнему не оборачиваясь, прогудел Макс, которому наконец удалось найти прыткую пуговицу и всунуть ее между двумя опустевшими вазами.
Берни открыл стенной шкаф, достал оттуда стакан и бутылку и, расчистив немного места на столе, поставил их перед Максом.
— Я сейчас, — сказал Берни, — только схожу к Жанин за льдом.
Не дожидаясь его возвращения, Макс наполнил стакан на четыре пятых под укоризненным взглядом Паризи, отражение которого по-прежнему занимало собой все пространство в зеркальной раме.
— Послушайте, Паризи, я вас прошу, не стойте над душой. Мы же договорились, после концерта я имею на это право. До концерта, согласен, нет, но после — имею право.
— Я не об этом, — уточнил Паризи. — У вас не осталось места для льда.
— И правда, — согласился Макс и одним глотком отпил половину жидкости. — Видите, теперь место есть.
Паризи покачал головой, полез в карман за новой салфеткой и, обнаружив, что она последняя, поморщился, скомкал обертку и отправил ее в корзину, как раз когда снова появился Берни с бело-желтым ведерком-термосом для льда.
— Спасибо, Берни. Нет, нет, щипчики не нужны. — Макс положил два кубика в свой стакан, взял третий, провел им по лбу, вискам и шее и продолжил, обращаясь к отражению Паризи. — Что бы я делал без Берни! — сказал он.
— Разумеется, разумеется, — вяло подтвердил Паризи.
— Кстати, — нерешительно вмешался Берни.
— В чем дело? — спросил Паризи.
— Э-э, видите ли, я вынужден просить вас, конечно, если это возможно, немного мне прибавить.
— Об этом не может быть и речи, — жестко отрезал Паризи.
— Но у меня расходы, — настаивал Берни, — между прочим, у меня есть пасынок, он очень способный. Я должен оплачивать его учебу. У него очень высокий IQ, и я хочу устроить его в приличную школу. Вы же знаете, обучение в частных школах стоит дорого.
— Вздор, — безапелляционно заявил Паризи.
— Кроме того, заметьте, — продолжал Берни, — у меня весьма деликатная роль. Я должен во всем помогать мсье Максу, следить за его питанием (при этих словах Макс улыбнулся) и, когда он не чувствует себя в состоянии играть, поднимать ему настроение, а это большая ответственность. К тому же, — добавил он, — не очень-то легко каждый вечер выталкивать его на сцену, иногда он отбивается. Мсье Макс артист, он принадлежит публике, и, поймите, все это некоторым образом отражается на мне.
— Нет, по-моему, я сплю, — сказал Паризи.
— Простите, — вмешался Макс, — но я целиком поддерживаю требования малыша. Парень мне необходим, и если его со мной не будет, я ни за что не отвечаю.
Взмокший Паризи попытался отжать свою салфетку, полез за новой, но, вспомнив, что их больше нет, вытер лоб рукавом.
— Я подумаю, — сказал он, — мы еще поговорим об этом.
— Почему не обсудить это сейчас? — спросил Берни.
— Совершенно справедливо, — добавил Макс, — к чему откладывать?
— Давайте присядем, — вздохнул Паризи, вытаскивая из кармана маленький продолговатый предмет — то ли мобильный телефон, то ли электробритву.
— С удовольствием, — согласился Берни, в то время как Макс встал, осушив свой стакан.
— Ладно, — сказал он, — я вас оставляю договариваться без свидетелей.
Когда он вышел из артистической, Паризи нажал кнопку на продолговатом предмете, который оказался портативным вентилятором, работающим на батарейках: его затихающее жужжание преследовало Макса, пока он шел по коридору.
Когда Макс вернулся домой после концерта, Алис спала, как ни в чем не бывало. В Восемнадцатом округе, рядом с Шато-Руж, у них была двухэтажная квартира, достаточно большая, чтобы они жили, не мешая друг другу, она наверху, он внизу. При желании они могли целый день не встречаться.
Макс бесшумно затворил входную дверь и прошел в студию: огромный рояль, маленький письменный стол, совсем маленький холодильник, как в гостиничном номере, стеллажи с нотами и диван. Здесь, изолированный от уличных шумов окнами с двойной рамой, он проводил большую часть времени, сообщаясь с верхним этажом при помощи внутреннего телефона. Макс мог шуметь сколько угодно, не опасаясь разбудить Алис. Он достал из холодильника выпивку и открыл крышку рояля. Поставив стакан на инструмент, пробежал пальцами по клавиатуре. Было бы неплохо поработать над теми двумя ошибками, что он допустил во время концерта, выделить эти пассажи, рассмотреть, разобрать их, как два маленьких часовых механизма, и снова собрать, после того как будут найдены поврежденные шестеренки. Но этот концерт мне и в самом деле немного надоел. И к тому же я устал.
Лучше принять душ, потом зайти в студию за стаканом и отнести его в спальню. Даже лежа в постели, Макс продолжал думать о тех двух фальшивых нотах — одна в начале первой части и другая — во второй трети последней. Ничего серьезного, не так уж они были важны. Неверно взятая нота или даже целый аккорд не имеют большого значения, когда они тонут в массе звуков, в этом случае все идет своим чередом, и, никто, кроме меня, этого не замечает. Гораздо хуже нечисто сыграть пассаж во второй части, менее насыщенной и намного более хрупкой и прозрачной, — это заметили бы все. Ладно, довольно. Лучше подумай о Розе, как ты это делаешь каждый вечер, к тому же выпил ты достаточно, и незачем допивать стакан. Уже поздно, погаси свет. Так. А теперь спать. Не спится? Ладно, прими свои таблетки и запей водой. Водой, я сказал. Вот так.
Таблетки подействовали через двадцать минут, а спустя еще полчаса сон вошел в парадоксальную фазу: бессвязные видения стремительно проносились сквозь сознание Макса, в то время как его глаза беспокойно двигались под закрытыми венами. Он проснулся раньше, чем хотел, попытался снова заснуть, но безуспешно: лежа в полусне с закрытыми глазами, он плыл сквозь поток абсурдных мыслей, нелепых рассуждений, бесконечных перечислений и бесцельных подсчетов, время от времени ненадолго проваливаясь в сон.
Ладно, пора вставать, должно быть, уже десять часов. Ну хорошо, не сразу, но не позже половины одиннадцатого. Да, лежи себе, думай о Розе, если хочешь. Может быть, лучше тебе от этого и не станет, но какая, в сущности, разница…
Роза была воспоминанием, относящимся к годам учебы в Тулузской консерватории, лет тридцать тому назад. Она училась на последнем курсе по классу виолончели, была сверхъестественно красива и ездила на белом «фиате», немного великоватом для нее, она парковала его каждый день в одно и то же время возле одного и того же бара, садилась на террасе за один и тот же столик и разговаривала всегда с одним и тем же бородатым типом диковатого вида, — нет, судя по всему, он ей не любовник. С каждым днем она казалась Максу все более прекрасной, несмотря на то, что ее нос — единственная деталь в ее лице, которая могла бы вызвать возражение, — был изогнут чуть больше, чем надо, отчего, впрочем, только выигрывал: это был нос египетской царицы, испанской аристократки или хищной птицы — словом, серьезный нос. Макс так устроил свои дела, что в течение целого года каждый день, в одно и то же время оказывался в том же баре, что и она, и занимал столик на той же террасе, ни слишком далеко, ни слишком близко от нее, откуда мог наблюдать за ней, не осмеливаясь заговорить — она слишком хороша для меня, слишком хороша, — да и что он мог бы ей сказать?