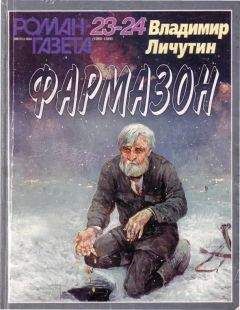А если бы кто любопытно погрузился сейчас в Тяпуева, то увидал бы хмару и темь в душе его под стать миру вокруг, словно бы обвеяли всю ее сквозняками, выстудили, да и забыли распахнутой. Томился Тяпуев, несвычно было ему в карбасе: лопатки мерзли, сидеть неудобно, овчина свалялась, надо бы встать и поправить под собою – но лихо, ноги в броднях давит литой резиной, да и встречный низовой ветер выжимает слезу. Никого не слышал Иван Павлович, он и обращенья к себе не понял и словно сквозь пелену видел плоское лицо бухгалтера, его крохотный девчоночий роток, и потому, не проникнув в чужие слова, Тяпуев снова погрузил подбородок в овчину воротника: так вроде бы притерпелось, надышалось и казалось уютнее. Он вовсе отвернулся от всех, видя перед собою лишь рулевого Колю Базу. Тот сидел у правила лихо, будто на коне, слегка приоткинувшись, так что длинная ячменная волосня, поднятая и вздыбленная ветром, волочилась сзади. Фуфайка лишь на одной латунной пуговке держится, готовая слететь с плеча, шея бурая столбом, и в просвете распахнутой рубахи выпирает такая же зоревая, нахлестанная ветром грудь. Куда отправился легкомысленный человек? О чем думает лихая голова? Его что, и холод не берет?
Обвел Иван Павлович взглядом мир, насколько позволял курчавый воротник, и еще более загрустил: все потускнело вокруг, засвинцовело, набухло и набрякло, каждая пора глинистого угора, проплывающего за бортом, и низкое ворсистое небо напитались влагой, ручьевины, полные торопливой воды, жадно вспарывали землю, и в свежих ранах гнулась под напором струй жесткая осотная трава. Клял себя Иван Павлович, что поддался на посулы Гриши Чирка и увязался с ним на рыбалку, запретную и опасную. А тот обещал сладко, умело стелил слова, травил искусом душу, дескать, под Богослов самая жирная семга идет, такие ли тяпухи, килограммов двадцать свесят, как руками взденешь, будто серебра оковалок, так сердце возрадуется и запоет. Тоже вот, старичишко моховой, вроде бы жизнь всего выпила, но откуда-то слова такие изыщет, так заманно запоет-зальется, что невольно поверишь – есть еще на миру райские места, есть. Себе не будешь верить, а другому поверишь и на обман желанно кинешься, закрыв глаза, чтобы утешиться и жизнь обновить.
Не уставал удивляться Тяпуев последнее время. Метил отдохнуть в Вазице месяц, приобвыкнуть к родным местам, кое-что вспомнить, и вдруг по тайному, далеко идущему умыслу, пока и для себя-то худо видимому, остался здесь на зиму, а может, и долее. Деревню его поступок озадачил и смутил поначалу, даже слегка растревожил ровную здешнюю жизнь: было теперь над кем зубы мыть да пули пускать по Вазице. Когда спрашивали Тяпуева, почему один зимовал, без супруги, он коротко и невнятно отговаривался, но по деревне упорно ходили слухи, что оставил он бабу, с тремя кинул, и если убежал сюда, то не иначе как скрылся от алиментов, такой ходок. Но другие утверждали, что у Ваньки с молодых лет кила, пересилился на зверобойке, и с той поры он к мужскому делу не способен, детей у них веком не бывало, супруга ему рога наставила и сбежала и нынь он холостяжит.
Дом свой накладно было ставить, да и какая нужда в нем, если ранее не решался, и Тяпуев занял пустующую половину Калиствы Усанихи, последней девки из рода земледелов Усанов. Слухи донесли ему, что, как умирать, попросила старуха фотографии двух сынов своих, погибших в неродной земле, долго глядела и гладила, после положила себе на грудь и так, тихо, почти безумно, не узнавая никого, отошла. Последние годы Калиства вроде бы умом тронулась, в избу к себе никого не пускала, завела пять овечек, держала их в запечье на ящичках (для каждой был свой), кормила ситным из лавки и всю пенсию, что получала за сынов и мужа, тратила на хлеб для животинок. Если в лавке к ней подступались и начинали упрекать, дескать, зачем такую дикую жизнь себе устроила, она кротко отвечала: «У вас детушки, а у меня овечушки. Они у меня умницы, каждая на своем ящичке сидит».
Долго проветривал Иван Павлович избу, остерегаясь сразу заселить ее, часто наведывался и привыкал к низкому задымленному потолку, к струганым почернелым стенам с разбежистыми слоистыми трещинами и к низким, в две тетрадных страницы, оконцам, сквозь которые едва пробивался свет, вполовину запутавшийся в глухом бурьяне, полонившем палисад. Запах той, прежней долгой жизни упорно стоял, не выветривался, им была пропитана, наверное, вся изба, и лишь с последним трухлявым бревном, смешавшимся с прахом земли, источится прежний житейский дух. Здесь долго коротала одинокая старуха, здесь давно не ночевало молодое тело, пахнущее здоровым потом, здесь давно не любили и вкусно не ели, и потому вся изба насытилась тленом подполья и старых, заношенных одежд, плесенью и мокретью углов, назьмом из запечья, овечьей утробой и звериной отрыжкой. Можно представить, какая прежде тут жила вонь, какие смрады кочевали под потолком, но той хозяйке-жилице они казались своими, родными и потому неприметными.
Троюродник, где квартировал Тяпуев, удивлялся блажи своего значительного сродника, уговаривал, дескать, отчего бы у них не жить, места вволю, никого не стеснишь, но Иван Павлович, не привыкший к домогательствам, лишь пронзительно взглядывал ледяными глазами, в которые глядеться было больно, и молча вздергивал плечом.
Всю лишнюю заваль и грязь вымели из кухни без него и проветрили хорошенько, но Тяпуев не терпел чужих вещей, всегда напоминающих о смерти, и потому выкинул на поветь все, без чего можно обойтись. К кровати он подступился в последний свой приход, когда уже окончательно решился переезжать, и понял, что спать на ней не сможет: от нее пахло кислыми шкурами, и даже бордовые занавески в белый горошек, повешенные по низу свояченицей, не придавали ей желанного виду. То было грубое крестьянское ложе, когда-то крашенное охрой и не однажды залатанное и подновленное, может, прежнего хозяина иль его деда, на котором в свое время с любовью и терпением строился весь род Усанов.
Когда хозяева были молоды, кровать помещалась в горнице напротив печки-голландки, с горой пухлых пуховых подушек и перин, стояла на березовых чурочках, чтобы видеться солидней; тогда было охотно взбираться на высокие постели, и на той высоте любить казалось просторней и веселей, и не так тянула земля, и холод с подполья меньше проникал зимами, да и в подкроватные сумерки хорошо скрадывалось бабье обзаведение во многих берестяных кошелках и укладках. А темными осенними вечерами на такой-то вышине да в перинном омуте куда как ловчее прилеплялись тела друг к дружке, и ладнее играли и путались, и общая утеха велась по совести и согласью. Но когда постарели, и ноги сдали, и каждая жила затвердела и зачужела, и вползать на вышину стало тяжко, кровать перетащили в кухню, поближе к русской печке, березовые чурочки истопили, перины отдали девкам для новых утех, а настил из вышорканных добела досок покрыли тощим тюфяком, который не проминался, не сваливался комьями и меньше беспокоил ноющее тело.
В дверь кухни кровать не пролезала, и Тяпуев расхряпал ее топором, против воли своей любопытно разглядывал ложе, на котором начался, продлился и кончился мужицкий род Усана-земледела. Несмотря на внешнюю громоздкость, кровать была сотворена доброй столярной рукой, привычной к дереву: изголовье и изножье с точеными балясинами и тяжелыми шарами токарной работы, по поднизу деревянные же подзоры и стрельчатые полотенца с прорезными истинными крестами, грядки сбиты на шип и подогнаны гладко, без шероховатинки и скола – не подвела плотницкая рука. Ежели где и покосилось, так какое время минуло; если где и рассохлось, расщепилось, так какая долгая жизнь проведена, сколько страдания оставлено, сколько слез пролито; тут и самое каменное дерево, от вдовьих слез не раз намокнув, лопнет и распадется от комля и до вершины. Гвоздье, что попалось под топор, было загнано позднее, забито неумело – вкривь и вкось – вдовьей рукой. Знать, Калиства старалась, крепила свою одинокую постелю, обихаживала, как могла, то самое место, на котором родилась сама и сыновей выпустила…
Да, изнанка человечьей жизни была невзрачной, трухлявой. Изголовье, там, где касалось грядок, осыпано странной белесой перхотью, словно бы натрусившейся с волос. Сминая брезгливость, Тяпуев наклонился, близоруко разглядел следы былых клоповых поселений и игрищ, тоже бесследно исчезнувших, а может, откочевавших в иные домы, где нашлась для пропитанья свежая молодая кровь. С мстительным и сладким торжеством выбросил Тяпуев рухлядь за сарайку, и брезентовые рукавицы-верхонки тоже выкинул, точно и они успели впитать в себя клопиное трупьё, заразу и плесень. Лишь на одно мгновение пробудилось в Иване Павловиче некоторое недоумение от всего увиденного, жизнь прожитая вдруг перепуталась, и он растерянно оглядел сумрачную опустевшую кухню, протертые четыре следка от кровати и темное пятно на полу, куда не доставал свет. Ему показалось, что он в чем-то обманулся ранее в своих представлениях иль был нехорошо обманут, а на самом-то деле вся жизнь Усанов была иной, вовсе незавидной по нынешним-то меркам, обыденной и грязной, и поднявшаяся в душе жалость к себе ли иль к тем, кто когда-то бытовал здесь, защемила горло. Но беспокойство мимолетно прояснилось и тут же затухло. Иван Павлович сразу подсказал себе, что тут жировали кулаки, и память услужливо вернула Тяпуева в двадцатые годы, когда эта кровать с точеными шарами и тремя пуховыми перинами под потолок, медный ведерный самовар, норвежские часы с боем и поставец для посуды казались богатством недосягаемым и необыкновенно завидным. Ведь сам-то Ванька Тяпуев, чего скрывать, родился на дощатом примосте возле двери, крытом всякой рваниной и оленьей вытертой полостью; вместо молочной титьки получил в орущую пасть хлебный жевок; крутой кипяток пил из чугуника и спал в душной темени полатей, куда скидывалась вся сохнущая одежонка… Вроде бы сорок лет пробыл с той поры в больших городах, и жил-то в достатке и при почестях, и думалось, что прошлое кануло в невозвратную темь, а вот навестил родимую Вазицу – и все вспомнилось разом, словно бы память дожидалась своего часа.