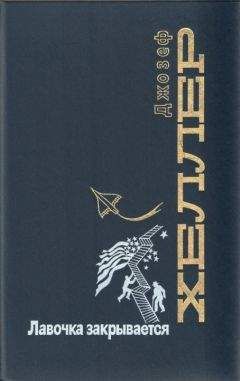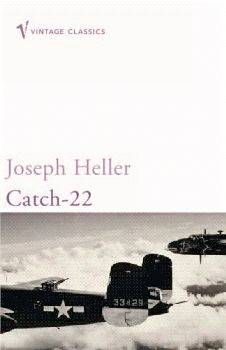Берегом этой реки оказалось побережье Атлантического океана, и мы направились прямо в Африку. Эпплби в который раз потерял терпение, по прошествии еще получаса взял на себя обязанности штурмана, а когда, наконец, разобрался в радиосигналах и привел самолет домой, топлива оставалось ровно на столько, чтобы мы с посадочной полосы добрались до места нашей стоянки. Двигатели заглохли, прежде чем их выключили.
Мы все чуть-чуть не отправились на тот свет.
До меня это дошло, только когда я достиг среднего возраста, и впоследствии, рассказывая этот анекдот, я совсем не смеялся.
На этой фотографии со мной и мой дружок, Билл Найт, тогдашний башенный стрелок, он был года на два старше меня и уже женат, у него был ребенок, которого он и видел-то всего неделю; а еще на фото — тощий парнишка моего возраста, Ховард Сноуден, фюзеляжный стрелок и радист, родом откуда-то из Алабамы, его убьют во время выполнения задания на пути в Авиньон примерно через месяц, и он будет медленно умирать, крича от боли и жалуясь, что ему холодно. Нам по двадцать лет, и мы выглядим как дети, которым всего по двадцать лет. Хови был первым мертвецом, которого я видел, и единственным мертвецом из всех, каких я видел с тех пор за стенами траурного зала. Моя жена умерла ночью, и ее уже увезли из палаты, когда я приехал в больницу, чтобы подписать бумаги и заняться подготовкой к похоронам. Она умерла точно так, как говорил онколог, почти день в день. Ее тошнило, но особых болей не было, и нам хочется думать, что она была избавлена от этих болей, потому что она всегда была таким хорошим человеком, по крайней мере по отношению ко мне и детям, обычно веселая и с добрым сердцем. А если и сердилась, то только на своего первого мужа, да и то лишь изредка, в особенности потому, что у него часто не хватало денег на детей, но находилось на новых подружек и нашлось еще на две женитьбы. Лю сразу же после войны сказал, что мне повезло с мертвецами; Лю был моим дружком с самого детства, он воевал в пехоте, попал в плен и, прежде чем его доставили домой, повидал сотни мертвецов в Европе, американцев и немцев, и десятки гражданских немцев в Дрездене, когда его послали разбирать завалы после британской бомбежки, о которой я впервые узнал от него, воздушного налета, от которого погибли почти все в городе, кроме этих пленных и их охранников; я тогда ничего об этом не знал и даже не сразу поверил.
— Больше ста тысяч? Лю, ты, наверно, спятил. Это больше, чем Хиросима и атомная бомба.
Я потом нашел об этом в книгах и признал, что он был прав.
Но это было почти пятьдесят лет назад. Не удивительно, что наше потомство не особо интересуется Второй мировой. Из них тогда еще почти никто и не родился. А если бы родился, то сейчас ему было бы под пятьдесят.
Но может быть, когда-нибудь в далеком будущем, в которое я и заглядывать-то боюсь, кто-нибудь из детей или внуков наткнется на эту коробочку или ящичек, в котором лежат мои крылышки, медаль ВВС, сержантские нашивки и фотография военных времен, и, возможно, что натолкнет его на мучительные раздумья о некоторых семейных недоразумениях, которые когда-то возникли между нами, или которые не возникли, но должны бы были возникнуть. Как это случилось со мной и противогазом, привезенным моим отцом с Первой мировой войны.
Интересно, что с ним стало. Когда я был маленьким, я любил играть с этим противогазом как с игрушкой, и потихоньку занимался этим, пока отец был на работе и городе, где вырезал по выкройке материал для детской одежды. У меня есть и его солдатская фотография. После того как я еще в начальной школе прочел биографию немецкого аса времен Первой мировой войны барона Манфреда фон Рихтхофена, я какое-то время хотел выучиться на военного летчика и каждый день вылетать на воздушную дуэль с ним над окопами во Франции и каждый день заново сбивать его. Он был моим героем, и я мечтал сбивать его. Вскоре после войны, моей войны, умер мой отец, врачи сказали — от рака. Он любил курить сигары. Он покупал их в маленькой лавочке по соседству, за углом на Серф-авеню, где с довольной улыбкой мистер Левинсон сидел за своим рабочим столиком с ножом и табачными листьями, которые размечал и свертывал вручную, а миссис Левинсон, невозмутимая веснушчатая карлица с темными волосами, продавала купальные шапочки, затычки для ушей, дыхательные трубки для плавания, а также ведерки, лопатки и всякие другие пустячки для игры в песок на пляже, который находился всего лишь в квартале от их лавки. Они были бездетны.
Все работали. Мальчишкой я какое-то время гонял по улицам и пляжным барам, продавая газеты. Летом наши сестры продавали с лотков на улицах замороженный крем, шипучку. Дейви Голдсмит торговал хот-догами. На берегу не имеющие лицензии мальчишки, торгующие вразнос, вели, как спартанцы, свое сражение в парах сухого льда, поднимающегося из громоздких коробок в их загорелых руках; они пытались за никель сбыть мороженое в брикетах и разовых бумажных стаканчиках, прежде чем их схватят полицейские, преследовавшие их по рыхлому песку на глазах сочувствующих в пляжных костюмах, которые всем сердцем желали беглецам удачи. Многие из этих быстроногих старших парней, занимавшихся таким опасным делом, были мне знакомы.
Из нашей квартиры мы всегда слышали шум океанского прибоя и звук колокола с буя (мы называли его «бой», и мне до сих пор кажется, что так правильнее). Если же вдруг изредка наступало полное затишье, то во второй половине дня или уже ближе к ночи мы даже могли слышать отдаленные, неясные, призрачные звуки, доносившиеся с ближайшей к нам, находящейся от нас почти в полумиле, карусели, где играла диковинная каллиопа; сама эта громадная карусель располагалась на дощатом настиле, а на поворотном круге красовались кони цвета золотых карамелек с мазками ярко-черного и броскими оттенками синего и розового, напоминавшими цвета других сладостей, как, например, мармелада, лакричных конфет и леденцов; откуда взялись эти великолепные стремительные кони? существовала ли где-то корпорация, которая изготовляла их специально для каруселей? приносил ли этот бизнес хороший доход? Никто вокруг не был богат.
Новый президент законным образом вступал в должность, сменяя своего предшественника и испытывая при этом раздражение, вызванное душевной усталостью, происходящей от необходимости непрерывно объяснять, почему же он в конце концов в качестве вице-президента выбрал того, кого он выбрал.
— Ну, почему ты взял его? — Ближайший друг президента, государственный секретарь, считал своим долгом повторять этот вопрос. — Ну, скажи хотя бы мне. Я сохраню это в тайне.
— Да нет тут никакой тайны, — со слезами в голосе отбивался верховный руководитель страны. — В этом не было ничего закулисного, никакого политиканства. Просто я пораскинул мозгами. Даю тебе слово, в этом не было никаких преступных намерений.
— Вот именно это и пугает больше всего.
В середине второй недели пребывания в больнице Йоссаряну приснилась мать, и он еще больше уверился, что скоро умрет. Когда он сообщил эту новость докторам, они расстроились.
— Мы не находим у вас никаких заболеваний, — сказали ему они.
— Продолжайте поиски, — проинструктировал он их.
— Вы в прекрасной форме.
— А вы подождите, — посоветовал он.
Йоссарян снова лег в больницу под врачебное наблюдение; он вернулся туда еще раз, спасаясь от невротической лавины противоречивых симптомов, которые стали особенно множиться, когда он снова, всего второй раз за всю жизнь, остался один, но которые, казалось, исчезали один за другим, как туман, когда он рассказывал о них или когда его обследовали на предмет этих самых симптомов. Всего за несколько месяцев до этого он вылечил себя от неизлечимой болезни под названием радикулит только лишь тем, что позвонил одному из своих докторов, чтобы пожаловаться на свой неизлечимый случай радикулита. Он не мог привыкнуть к жизни в одиночестве. Он не умел постелить себе постель. Он предпочел бы голодать, чем готовить себе еду.
На этот раз он стремглав бросился в больницу, испуганный кошмарным видением другого кошмарного видения, посетившего его вскоре после того, как он услышал, что президент, который ему не нравился, собирается уйти на покой и что вице-президент, который не нравился ему еще больше, непременно займет президентское кресло; и вскоре после того, как он совершенно случайно узнал, что Милоу Миндербиндер, с которым он тоже был теперь нерасторжимо и неразрывно связан, — вот уже лет двадцать пять, — расширяется и, помимо проталкивания имеющегося у него в избытке несвежего товара, вроде старого шоколада и лежалого египетского хлопка, собирается заняться военным бизнесом — наладить производство нового боевого самолета, который намеревается продавать правительству, — конечно, любому правительству, которое сможет его купить.