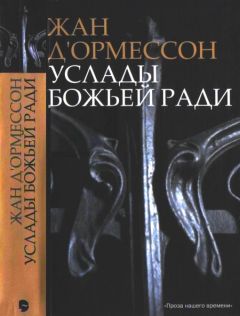У нас был самый что ни на есть простой образ жизни, где главное место занимали мессы, псовая охота, культ белого флага и родовитость. Ничего удивительного в таком образе жизни мы не видели: слишком давно он установился, и ничего иного мы просто не могли себе представить. Но достаточно мне вспомнить какое-нибудь время года, день и час этого совсем вроде бы светлого существования, чтобы тут же осознать всю плотность тайн, скрывавшихся за этой прозрачностью. Понадобилось очень много времени, чтобы все стало таким легким. Понадобилось много страданий, много пота и крови, чтобы я мог весело кататься на велосипеде по аллеям вокруг большого каменного здания с башнями и дозорными дорожками, которое местные жители называли замком. И они были правы. Это был всем замкам замок.
Нам казалось совершенно естественным жить в замке. Здесь родился мой отец, и его отец, и отец его отца. Из поколения в поколение мы здесь рождались и возвращались умирать. Один из братьев моего прадеда был на протяжении долгих лет невероятным и очаровательным мошенником. Благочестивого уничтожения чудом избежали лишь одна-две его фотографии. Он дюжинами продавал не принадлежавшие ему дома, корабли, скаковых лошадей, а то и женщин. Захватив с собой приданое сразу трех девиц, разумеется, девиц из высшего общества, он укатил в Южную Америку. Рассказывали, что его матушка, святая женщина, узнав об этом, умерла от горя. Как и все ее предки, она умерла в Плесси-ле-Водрёе. А через несколько лет он и сам вернулся из Аргентины, вернулся по своей воле, не опасаясь ни полиции, ни кредиторов, ни отцов и братьев своих невест, и почил в Господе, который только тем и занимался, что прощал нам наши преступления, наши безумства и ошибки. Так вот и организовывались вокруг нас наше пространство и наше время. Время, которое текло в обратном направлении только к своим истокам. А пространство имело своим центром колыбель нашего рода, куда мы и возвращались умирать.
Как вы сами понимаете, замок моего отца и деда, его отца и его деда и их прадедов на протяжении веков и поколений наполнялся завещанным имуществом. Комодами-склепами, цилиндрообразными секретерами с круглой крышкой, столами с инкрустацией и лакированными столиками самой разной конфигурации и назначения, с ящичками и без оных, опускающимися и поднимающимися по желанию, коврами и гобеленами из Обюсона и Фландрии, портретами предков в рост при всех регалиях, небрежно опирающихся одной рукой на письменный стол, с письмом в руке, на котором четко выделялось священное слово: «Королю». Все это и еще много-много другого, что загромождало анфилады чердачных помещений, полных пыли и огромных сундуков, куда нам запрещалось прятаться и где за паутиной скрывались привидения предков, все это наносилось поколениями, сменявшими друг друга, подобно морским волнам. Продавать и покупать считалось занятием подозрительным, неосторожным и вульгарным. Монтень где-то хвалится, что ничего не приобретал и ничего не промотал. Мы тоже никогда ничего не покупали и никогда ничего не продавали. Все накапливалось постепенно в результате бракосочетаний и кончин, из приданых и завещанного. Мы тут были ни при чем — такие формы принимала наша элегантность. Наше богатство, как и наше имя, уходило во тьму веков.
Каждая нация, каждая семья, каждый человек живет мифом, украшающим его существование. Нашим мифом был замок. В нашей повседневной жизни замок играл огромную роль. Наверное, можно сказать, что он был воплощением нашей фамилии. Нечто священное связывало их. Наша фамилия как бы окаменела. Это были не просто стены, башни, огромный внутренний двор, спиральные лестницы, по которым король Франциск I поднялся верхом на коне, когда вернулся из плена в Павии, не просто рвы, заполненные водой, где плескались карпы, помнившие еще золотые деньки легитимной монархии. К замку еще прилегали поля и леса, создававшие ему прекрасное обрамление. Время от времени дедушка поднимался со мной на самую высокую башню. Замок возвышался над всеми окрестностями. Стояла прекрасная погода. Он показывал мне богатства, дарованные нам веками. Вдали виднелись Сен-Полен и Руаси. Вильнёв и кладбище в Русете, где нас всех хоронили. Бабушка любила повторять, что это исконно французская земля, а дедушка добавлял, что именно такие края воспели Ронсар, Лафонтен и Пеги. Я смотрел. Смотрел и видел милые сердцу поля, деревья и холмы. Этот уголок Франции принадлежал нам.
После Бога, короля и нашей фамилии был еще один персонаж, порой склонный к буйству, который тоже, случалось, наведывался в наш замок: это была Франция. Наши отношения с ней были довольно двусмысленными. Естественно, Франция была менее древней, чем наше родовое имя. Она была менее древней, чем король, скроивший ее из разных кусков. И была она также менее древней, чем Господь Бог. Но еще до великой бойни начала этого века один из моих дядюшек и два кузена отдали за нее жизнь не то на рисовых полях в Азии, не то в африканских песках. С Францией нас соединял не брачный союз. Мы были повенчаны с монархией и Церковью. А современная Франция была для нас чем-то вроде старой любовницы, к которой привязываешься лишь со временем, после многих бурных сцен и искупительных жертв, поскольку короля уже не было, надо было как-то с ней поладить. Мы не очень-то жаловали ни господина Тьера, ни Гамбетту, которого дедушка упорно величал Гранбетой, не лучше относились мы и к Робеспьеру и Жану Жаку Руссо. Впрочем, были в истории Франции и такие прекрасные дни, как времена маршала Мак-Магона и герцогини Юзес, чьи прогулки по Булонскому лесу даже столько лет спустя оставались излюбленной темой летних бесед под старыми липами, где вся семья собиралась пить кофе. Мы говорили о Франции столько всякого дурного, сколько было в наших силах, но при этом считалось хорошим тоном отправляться куда-нибудь погибать у нее на службе. Умереть за то, что заменяло собой короля, было в наших глазах скорее привычкой и ремеслом, чем проявлением любви или чувства долга.
К сожалению, Францию захватила Республика. Сомкнем же ряды, Полиньяк, Буланже, полковник Анри, Жюль Леметр, Леон Доде, Шарль Моррас! Сомкнем наши ряды, Шамбор, под нашим белым знаменем! Дед мой, во имя Франции, настоящей, другой Франции, содержал, для войны с Республикой, крохотную полуподпольную армию, лишь отдаленно напоминавшую о великолепии монархии и доблести шуанов: дюжину гимнастов, маршировавших под звуки своих горнов в День святой Жанны д’Арк. Однажды вечером, не знаю уж, по какому-то несчастному стечению обстоятельств, к моему деду приехал некий министр Республики. Войдя в гостиную, тот заметил валявшуюся на столе газету. В силу естественного, вполне простительного любопытства он не удержался и развернул газету, а развернув, увидел, что это была «Аксьон франсез», ежедневно печатавшая оскорбительные материалы о нем, подвергая сомнению его нравственные устои, его финансовую честность и его способности.
— Ага! — воскликнул министр. — Вы читаете эту гадость?
— Ежедневно, — отвечал дедушка.
— Как отвлекающее средство? — спросил министр.
— Нет, сударь, как укрепляющее!
Вопрос этот не обсуждался: мы умирали за Францию. Но хотя мы и находились в одном лагере с националистами, она не была нашей родиной. В Богемии, в Польше, в Баден-Вюртемберге, в Шлезвиг-Гольштейне, в Бельгии, в Италии, в Вене, в Москве и в Одессе мы чувствовали себя так же дома, как и во Франции, а то и в большей степени. Отец мой говорил, что Церковь, пианисты, евреи, социалисты и мы не имеем отечества. Войны, религиозные преследования, женитьбы и случайности разбросали нашу семью по всей Европе. Одна ветвь семьи, английская, произносила нашу фамилию с невероятным акцентом, итальянские родственники просто прибавили к нашей священной фамилии неаполитанское «о» на конце, а русская ветвь, поехавшая в Одессу за герцогом Ришелье, женилась там всякий раз на эрцгерцогинях, неизменно немках по происхождению, да еще на целой веренице актрис, неизменно француженок, из знаменитого Михайловского театра. Однако особо примечательной оказалась германская ветвь.
Один из моих двоюродных прапрадедушек, не то в двенадцатом, не то в пятнадцатом поколении, женился на сестре адмирала де Колиньи, отчего все его родственники приняли протестантство. Их было довольно много, и всех их перерезали в ночь святого Варфоломея, за исключением одного ребенка, трехмесячного младенца по имени Анри, которого спасла его кормилица, продержав три часа в подвешенном состоянии в широкой каминной трубе, и который, к счастью, не задохнулся там, поскольку в ту августовскую ночь была такая жара, что у пьяных солдат не возникло даже и тени желания разжечь огонь. Луи, внук Анри, после отмены Нантского эдикта уехал в Германию. В войнах, которые вели Наполеон, Бисмарк, Вильгельм и Гитлер, погибли бесчисленные правнуки и внуки правнуков того Анри. Впрочем, добрая дюжина их все же уцелела, и в начале двадцатого века они еще продолжали с варварской элегантностью сражаться на дуэлях, изучать филологию в Гейдельберге и Тюбингене и жениться на дочках Круппа.