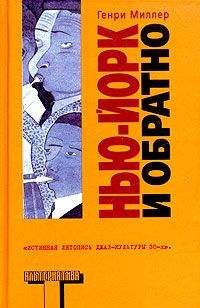А вот что было…
Все, что происходит значительного, по природе своей противоречиво. Когда появилась та, для кого я пишу эти строки, я вообразил, что где-то вне, как говорится, в жизни, лежит решение всех проблем. Познакомившись с ней, я подумал, что ухватил жизнь за хвост, что получил нечто, за что можно уцепиться. Отнюдь — у меня совсем не стало жизни. Я искал, к чему бы прибиться, и не находил ничего. Но в самом поиске, в попытках охватить, прилепиться, покончить с неустроенностью, я нашел то, чего не искал — самого себя.
Я понял, что никогда не испытывал ни малейшего интереса к жизни, а только к тому, чем я занимаюсь сейчас, к чему-то, параллельному жизни, одновременно и принадлежащему ей, и находящемуся вне ее. Что есть истина — мало интересовало меня, да и реальное меня не заботило, меня занимало только воображаемое, то, что я ежедневно душил в себе для того, чтобы жить. Умереть сегодня или завтра — не имеет никакого значения для меня и никогда не имело, но то, что даже сегодня, после многолетних попыток, я не могу высказать то, что думаю и чувствую — мучит и терзает меня. Теперь мне понятно, что с самого детства я, ничему не радуясь, гнался по пятам самовыражения, и ничего, кроме этой способности, этой силы, не желал. Все остальное — ложь, все, что я когда-либо совершил или сказал не согласуясь с моими устремлениями. А это составляет довольно-таки большую часть моей жизни.
Моя суть — сплошное противоречие. Так обо мне говорили. Меня считали то серьезным и рассудительным, то легкомысленным и безрассудным, то искренним и открытым, то небрежным и беспечным. Я совмещал все это в одном, а сверх того был еще кем-то, неожиданным для всех и прежде всего для самого себя. Мальчиком шести-семи лет я любил сидеть у рабочего стола дедушки и читать ему, пока тот шил. Я живо помню его в те моменты, когда он, налегая руками на горячий утюг, стоял и разглаживал шов на пиджаке, а сам тем временем мечтательно глядел в окно. Помню выражение его лица, когда он стоял и мечтал, помню лучше, чем содержание прочитанных книг, лучше, чем наши с ним беседы, лучше, чем игры, в которые я играл на улице. Меня всегда очень интересовало, о чем же он мечтает, что позволяет ему вознестись над телесной оболочкой. Сам я до сих пор не научился мечтать наяву. Мой рассудок всегда прозрачен, живет минутой и все в таком духе. Его дневные грезы очаровывали меня. Я знал, что его мечты никак не связаны с работой, с нами, знал, что он одинок и что одиночество означало для него свободу. А я никогда не был одинок, и меньше всего в те минуты, когда был предоставлен самому себе. Казалось, меня всегда кто-то сопровождает: я был словно крошка от большой головки сыра, какой я себе представлял мир, и я никогда не прекращал думать об этом. Я никогда не существовал отдельно, никогда не мыслил себя целой головкой сыра, вот так-то. Следовательно, даже если у меня и был повод погоревать, пожаловаться, поплакать, я сохранял иллюзию принадлежности к общему, вселенскому горю. Если я плакал — значит, и весь мир заливался слезами — так я себе это представлял. Я очень редко плакал. По большей части я весело смеялся, приятно проводил время, а проводил я время приятно потому, что, как сказал раньше, я действительно ни хрена ни во что не въезжал. Если мне худо — значит, и повсюду худо, я был убежден в этом. А всех хуже тому, кто слишком беспокоится. И это обстоятельство еще в раннем детстве сильно впечатляло меня.
Например, вспоминаю случай с другом моего детства Джеком Лоусоном. Целый год он не поднимался с постели, испытывая ужасные боли. Он был моим лучшим другом — так, во всяком случае, говорили. Ну ладно, сначала я, вероятно, жалел его и, возможно, иногда заходил к нему домой поинтересоваться, как он там; но через месяц или два я стал совершенно равнодушен к его страданиям. Я сказал себе: он должен умереть, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Решив это для себя, я и поступал соответствующим образом: то есть, быстро о нем забыл, предоставив Джека его судьбе. Тогда мне было лет двенадцать и, помню, я очень гордился своим решением. Помню похороны — довольно постыдное мероприятие, скажу я вам. У гроба сгрудились родичи и друзья и вопили, как больные обезьяны. А мать — та совсем меня доконала. Она, существо редкой духовности и, несомненно, последовательница Христианской Науки,{3} хотя и не верила в тление и смерть, подняла такой крик, что сам Христос поднялся бы из могилы. Но не ее возлюбленный Джек! Нет, Джек так и лежал холодный, как кусок льда, окоченевший и безответный. Он умер, и на этот счет не могло быть двух мнений. Я знал это и был рад. И не выдавил ни слезинки. Я не мог утверждать, что ему стало лучше, ибо «он» исчез. Он ушел, а вместе с ним и те страдания, которые испытывал он сам и которые он невольно навлек на других. Аминь! — сказал я про себя и при этом, будучи в легкой истерике, громко пернул, как раз у гроба.
Что такое сильное беспокойство, я узнал, впервые влюбившись. Но и любовь озаботила меня не слишком. Если бы я по-настоящему переживал, то сейчас не писал бы об этом: я умер бы с разбитым сердцем или повесился бы от любви. Но первая любовь преподала мне дурной урок: она научила лгать. Она научила улыбаться, когда улыбаться не хотелось, трудиться, когда не веришь в успех, жить, когда не видишь смысла продолжать жизнь. Даже когда я уже забыл ее, я все еще сохранял привычку делать то, во что не верил.
С самого начала был только хаос, об этом я уже говорил. Но иногда я проникал настолько близко к сердцевине беспорядка, что диву давался, почему все вокруг не взрывается.
Стало принято все валить на войну. Но, скажу я вам, война ничуть не коснулась ни меня, ни моей жизни. В то время как остальные находили теплые места, я перебивался с одного тощего заработка на другой, и все же чуть душа с телом не расставалась. Меня увольняли почти сразу, как нанимали. Я обладал недюжинным умом, но внушал недоверие. Куда бы я ни поступал — я сеял раздоры, и не по своей наивности, а потому, что походил на прожектор, высвечивавший всяческую глупость и тщетность. Кроме того, я не умел лизать жопу начальству как подобает. И это, несомненно, выделяло меня. Когда я спрашивал работу, по моему виду сразу же определяли, что мне до лампочки, получу я ее или нет. И, разумеется, в основном я ее не получал. Однако вскоре сами поиски работы стали для меня родом деятельности, забавой, так сказать. Я заходил и просил какой-никакой работы. Так я убивал время, не хуже, насколько я понимаю, чем на самой работе. Я был Себе хозяин, у меня оставалось свободное время, но, в отличие от других хозяев, я располагал только собственным пепелищем и собственной несостоятельностью. Я не был ни корпорацией, ни трестом, ни государством, ни федерацией, ни содружеством наций — скорее, я был похож на Господа Бога, если уж на то пошло.
Так продолжалось с середины войны вплоть до… скажем так: одного прекрасного дня, когда меня захомутали. В конце концов настал день, когда я отчаянно возжелал работы. Я нуждался в ней. Не имея ни одной минуты в запасе, я решил согласиться на самую распоследнюю работенку на свете, а именно: курьера. Я вошел в отдел кадров одной телеграфной компании, назовем ее Телеграфной Компанией Северной Америки «Космодемоник» — вошел под вечер, готовый на все. Я возвращался из публичной библиотеки с увесистыми томами по экономике и метафизике под мышкой. К моему великому удивлению, в работе мне было отказано.
Тип, который меня отшил, оказался коротышкой у коммутатора. По-видимому, он принял меня за студента колледжа, хотя мое заявление ясно говорило о том, что я давно завершил образование. В заявлении я даже снабдил себя степенью доктора философии Колумбийского университета. Очевидно, это осталось незамеченным, или с подозрением воспринятым коротышкой, который меня отшил. Я рвал и метал, тем более, что впервые в жизни действовал на полном серьезе. И не только: я проглотил собственную гордость, которая в некоторых — особых — случаях весьма велика. Жена, как водится, одарила меня косым взглядом и усмешкой. «Ничего другого я и не ждала», — сказала она. Я пошел спать, раздумывая над этим, еще не оправившись от жгучей обиды, заводясь все больше и больше бессонной ночью. То, что у меня есть жена и ребенок, нуждающиеся в поддержке, не так уж меня беспокоило: ведь работу никогда не предлагают только потому, что у вас иждивенцы — это я понимал очень хорошо. Нет, меня мучило то, что они отвергли меня, Генри В. Миллера, образованного, эрудированного человека, который просил самую распоследнюю работенку на свете. Это меня прямо-таки разжигало. Я не мог от этого отделаться. Утром я вскочил чуть свет, побрился, облачился в лучший костюм и поспешил к метро. Я решительно направился к главному офису этой телеграфной компании, поднялся на двадцать пятый этаж или где там президент с вице-президентом устроили себе логова. И сказал, что хочу видеть президента. Естественно, президент или уже уехал, или был слишком занят, чтобы беседовать со мной, но: может, вы поговорите с вице-президентом или, лучше, с его секретарем? Меня принял секретарь вице-президента, умный, внимательный малый, и я высказал ему то, что накипело. И сделал это весьма искусно, не очень пылко, но в то же время дал понять, что меня не так-то просто отшвырнуть в сторону.