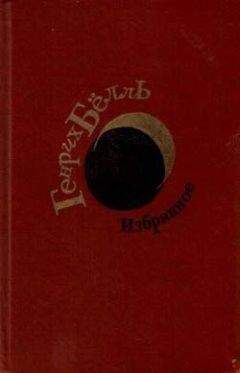– Да, пожалуйста, а теперь давай спать. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи.
Но после этого он уже не мог уснуть и знал, что мать тоже не спит, хотя лежит совсем тихо. Мрак и тишина, только издалека приглушенный грохот с Восточной товарной, только всплывают и встают в памяти слова, которые не дают покоя: слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, – это слово было нацарапано и на стене у лестницы, ведущей в квартиру Брилаха, и еще новое слово: безнравственно, которое Брилах где-то подцепил и теперь все повторяет. Часто думал мальчик и о Гезелере, но тот был очень далеко, и когда он думал о Гезелере, то не чувствовал ни страха, ни ненависти, только какую-то тяжесть; он куда больше боялся бабушки, она постоянно вдалбливала в него имя Гезелера и при всяком удобном случае заставляла повторять его. Глум, слыша это, недовольно покачивал головой.
Потом он догадывался, что мать уснула, но сам никак не мог уснуть; в темноте он пытался представить себе лицо отца, но это ему не удавалось – тысячи глупых картин роем кружились в его голове – из фильмов, из иллюстрированных журналов, из учебников: Блонди, Хоппелонг Кессиди и Дональд Дак, – а отец не появлялся. И дядя Брилаха, Лео, вставал перед ним, и кондитер, и Гребхаке с Вольтерсом, это те двое, которые делали в кустах что-то бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей травы. Интересно, а бесстыдный – это все равно что безнравственный? Но отец, человек, который на фотографии выглядел слишком живым, слишком веселым, слишком юным для настоящего отца, отец так ни разу и не появился. Всем отцам обязательно подавали яйцо к завтраку, но с его отцом это как-то не вязалось. У всех отцов – твердый распорядок дня, свойство, которым в какой-то степени обладал дядя Альберт, но и распорядок никак не вязался с отцом. Распорядок – это: вставание, яйцо к завтраку, работа, возвращение домой, газета, сон. Но все это не вязалось с его отцом, зарытым где-то на окраине русской деревушки. Прошло уже десять лет, отец, наверное, похож теперь на скелет в медицинском музее. Кости, оскаленные зубы. Рядовой и поэт, как-то не подходит одно к другому. Отец Брилаха был фельдфебелем и слесарем. Отцы других мальчиков были: либо майор и в то же время директор, либо унтер-офицер и бухгалтер, либо старший ефрейтор и редактор, ни один из отцов не был рядовым, и ни один из них – поэтом. Дядя Брилаха, Лео, был вахмистром, вахмистр и кондуктор – цветная фотография на кухонном буфете между саго и крупой. Что такое саго? От этого слова веяло Южной Америкой.
Потом выплывали вопросы из катехизиса – водоворот цифр, и каждая обозначала вопрос и ответ.
Вопрос одиннадцатый: прощает ли бог грешника, который покаялся? Ответ: да, бог охотно прощает всякого грешника, который покаялся. И непонятное двустишие: «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» Никто не останется. По твердому убеждению Брилаха, все взрослые – безнравственные, а дети бесстыдные, мать Брилаха безнравственная, дядя Лео – тоже, кондитер, может быть, тоже; и его мать, которой бабушка шепотом выговаривает в передней: «Где ты только шляешься?» – тоже.
Есть, конечно, исключения, это признавал даже Брилах: дядя Альберт, потом столяр, который живет внизу, в доме Брилаха, фрау Борусяк и ее муж, Глум и Больда. Но лучше их всех фрау Борусяк – у нее низкий, глубокий голос, и она распевает над комнатой Брилаха чудесные песни, даже во дворе слышно.
Думать о фрау Борусяк очень приятно и успокоительно. «Я выросла в краю зеленом», – часто пела фрау Борусяк, и когда она так пела, ему все казалось зеленым, словно к глазам поднесли бутылочное стекло – все-все становилось зеленым, даже теперь, в постели, ночью, когда он с закрытыми глазами думал о фрау Борусяк и слышал ее песню: «Я выросла в краю зеленом».
Хороша еще песня про долину скорби: «Привет тебе, звезда в зените». И от слова «зенит» тоже все зеленело. В какое-то мгновение он все-таки засыпал – где-то между пением фрау Борусяк и словом, которое мать Брилаха сказала кондитеру, – это слово дяди Лео, – слово, которое мать прошипела сквозь зубы в пахнущем сдобой, теплом подвале пекарни, слово, значение которого ему разъяснил Брилах: это слово про сожительство мужчин и женщин, имеющее отношение к шестой заповеди, безнравственное слово, и сразу на память приходит стих, который его очень занимает: «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» А может быть, сон приходил к нему, когда он вспоминал про Хоппелонг Кессиди – лихого ковбоя с лихими приключениями, чуть глуповатого, как все гости, которых мать приводила в дом.
Так или иначе, но слышать дыхание матери было приятно: ее постель часто пустовала, иногда несколько суток подряд, и тогда в передней бабушка укоризненно шептала:
– Где ты только шляешься?
Мать не отвечала. Утреннее пробуждение тоже таило в себе некоторую опасность. Если Альберт будил его, уже надев чистую рубашку и галстук, все проходило благополучно: они устраивали тогда в комнате Альберта настоящий завтрак и никуда не торопились и не волновались, и можно было еще раз пробежать вместе с Альбертом домашние задания. Но если Альберт был еще в пижаме, непричесанный, с измятым лицом, тогда приходилось второпях глотать горячий кофе и срочно писать записку: «Глубокоуважаемый господин Вимер, прошу вас извинить меня за то, что мальчик снова опоздал сегодня. Его мать уехала, а я забыл разбудить его вовремя. Еще раз прошу извинить меня. С совершенным почтением».
Плохо было, когда мать приводила гостей: беспокойный сон в широкой постели Альберта, глупый смех, доносившийся из маминой комнаты; Альберт в такие ночи иногда и вовсе не ложился и только между пятью и шестью принимал ванну: шум воды, всплески, а он снова засыпал, и когда Альберт будил его, чувствовал себя бесконечно усталым и разбитым. На уроках он тогда клевал носом, а после уроков в качестве вознаграждения его водили в кино и кушать мороженое или брали к матери Альберта, в Битенхан – «Лесные ворота». Там пруд, где Глум голыми руками ловит рыбу и снова бросает ее в воду, там комната над коровником, там можно часами гонять в футбол с Альбертом и Брилахом на утоптанной, выкошенной лужайке, пока не проголодаешься и не захочешь отведать хлеба, который мать Альберта печет сама, а дядя Билль всегда приговаривает: «Намажьте побольше масла». Покачает головой: «Побольше масла». Опять покачает: «Еще больше». И Брилах, всегда такой неулыбчивый, смеется там от души.
Было много станций на пути, он мог уснуть на любом перегоне: Битенхан и отец, Блонди и безнравственно. Приглушенное жужжание вентилятора значило, что все хорошо: мать дома. Шелест страниц, дыхание матери, чирканье спички и тихий, быстрый глоток, когда она подносит к губам стакан с вином, – и непонятное движение воздуха, когда вентилятор давно уже выключен: это дым тянется к вентилятору, и Мартин незаметно погружался в сон – где-то между Гезелером и «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши».
Лучше всего было в Битенхане, где мать Альберта держала загородный ресторанчик. Мать Альберта все пекла сама, даже хлеб. Она это делала просто потому, что любила печь, – и они с Брилахом могли в Битенхане вытворять все, что им заблагорассудится, – ловить рыбу, уходить в долину, кататься на лодке или часами играть за домом в футбол. Пруд вдавался в лесную чащу, и их обычно сопровождал дядя Билль – брат матери Альберта. С детских лет дядя Билль страдал какой-то удивительной болезнью, которую все называли «ночная потливость» – странное название, вызывавшее смех у, бабушки и Глума, Больда тоже хихикала, заслышав это слово. Биллю было уже под шестьдесят. Когда же ему не было еще и десяти, мать однажды нашла его в постели всего залитого потом. На следующий день повторилась та же история, и мать, обеспокоившись, потащила его к доктору, ибо по каким-то таинственным преданиям ночная потливость считалась верным признаком чахотки. Но легкие у маленького Билля оказались в полном порядке, только сам он, как выразился доктор, был мальчик нервозный и субтильный; и доктор – тот самый, который вот уже сорок лет покоится на городском кладбище, – сказал пятьдесят лет тому назад: «Ребенка нужно беречь».
И Билля всю жизнь берегли. «Нервозный, субтильный» да еще ночная потливость – все это превратилось в своего рода ренту, которую пожизненно выплачивала ему семья. Мартин и Брилах, узнав об этом, долгое время с утра ощупывали свои лбы и по пути в школу делились наблюдениями. Выяснилось, что и у них иногда лбы бывают влажные. Особенно у Брилаха – он потел по ночам часто и очень обильно, но, с тех пор как Генрих Брилах родился, никому и в голову не приходило хоть денек поберечь мальчика. Мать рожала его, когда на город сыпались бомбы, они падали на ту улицу, а под конец и на тот дом, где в бомбоубежище, на грязных нарах, заляпанных ваксой, она корчилась в схватках. Голова матери оказалась на том самом месте, где какой-то солдат пристроил свои сапоги: от запаха ворвани ее тошнило куда сильнее, чем от родов, и когда кто-то сунул ей под голову замызганное полотенце, запах армейского мыла, жалкий аромат его тронул ее до слез; это оскверненное благоухание показалось ей невыразимо дорогим.