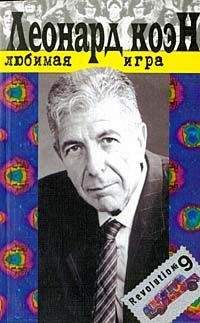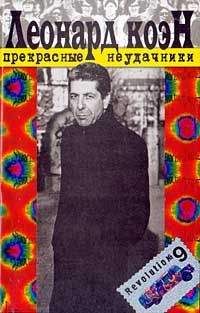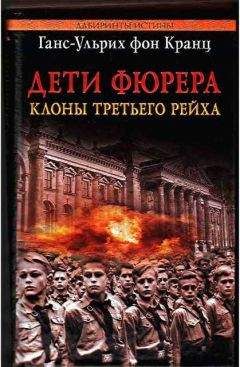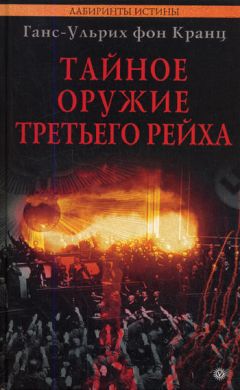Бривман похоронил скелет под анютиными глазками, одну из которых его отец каждое утро вставлял в петлицу. Бривману снова нравилось их нюхать.
7
Вернись, неумолимая Берта, вернись, завлеки меня на древо пыток. Вытащи меня из спален доступных женщин. Сполна выжми все, что причитается. Девушка, что была у меня прошлой ночью, предает того, кто платит за ее жилье.
Так в свои двадцать с чем-то Бривман часто взывал по утрам к духу Берты.
И вот кости его вновь становятся по-цыплячьи узкими. Нос сдает позиции впечатляющей семитской выпуклости и отходит к гойской невыразительности детства. Будто злополучный оазис, с тела вместе с годами сдуты волосы. Его снова выдерживают велосипедный руль и ветви яблони. Япошки и фрицы – гады.
– Сыграй теперь, Берта?
Он вполз за ней на непрочные ветки.
– Выше! – командует она.
Даже яблоки трясутся. Солнце ловит ее флейту, превращая полированное дерево в мгновение хрома.
– Ну давай же.
– Сначала ты должен сказать что-нибудь о Боге.
– Бог – тупица.
– О, это фигня. Я за такое играть не буду.
Небеса – сини, облака – плывут. На земле в нескольких милях ниже гниет яблоко.
– На фиг Бога.
– Что-нибудь чудовищно, ужасно грязное, трусишка. Настоящее слово.
– На хуй Бога!
Он ждет свирепого ветра, что сорвет его с жердочки и растерзанным швырнет на траву.
– На хуй БОГА!
Бривман замечает Кранца – тот лежит возле свернутого шланга, пытаясь достать из-под него бейсбольный мяч.
– Эй, Кранц, послушай-ка. НА ХУЙ БОГА!
Бривман никогда не слыхал, чтобы голос его звучал так чисто. Воздух – микрофон.
Берта меняет неустойчивую позу, чтобы стукнуть его флейтой по щеке.
– Грязный язык!
– Ты сама придумала.
Во имя благочестия она бьет его еще раз и, сдирая яблоки, срывается вниз мимо веток. Пока летит – ни звука.
Кранц и Бривман секунду рассматривают ее изломанную позу, какой ей никогда не добиться в спортзале. Уцелевшие очки в стальной оправе еще больше затягивают наркозом ее мягкое саксонское лицо. Из кожи на руке вырвалась острая кость.
После «скорой помощи» Бривман шепнул:
– Кранц, у меня какой-то особенный голос.
– Вовсе нет.
– Именно. Я могу сделать так, чтобы что-то случилось.
– Ты псих.
– Хочешь знать, что я решил?
– Нет.
– Я обещаю не разговаривать неделю. Я обещаю сам выяснить, как с этим играть. Тогда тех, кто умеет играть, не станет больше.
– Ну и что хорошего?
– Это же очевидно, Кранц.
8
Отец решил подняться с кресла.
– Я с тобой разговариваю, Лоренс!
– Отец с тобой разговаривает, Лоренс, – перевела мать.
Бривман попробовал изобразить последнюю отчаянную пантомиму.
– Послушай, как дышит твой отец.
Старший Бривман подсчитал затраты энергии, согласился на риск, тыльной стороной ладони заехал сыну по лицу.
Губы его недостаточно распухли, чтобы изображать «Старого черного Джо»[2].
Сказали, что она будет жить. Но он не сдался. Он станет еще одним.
9
Япошки и фрицы были блистательными врагами. У них вперед выступали зубы, имелись безжалостные монокли, и они отдавали команды на грубом английском, брызгая слюной. Войну они развязали из-за своего характера.
Суда Красного Креста дулжно бомбить, всех парашютистов – расстреливать из пулемета. Их формы жестки и украшены черепами. Когда их умоляли о сострадании, они продолжали жрать и ржать.
Они не начинали воевать без извращенного ликования на физиономиях во весь экран.
И что лучше всего – они пытали. Чтобы выведать секреты, изготовить мыло, показать героическим городам, где раки зимуют. Но в основном они пытали удовольствия ради, по самой своей природе.
Комиксы, фильмы, радиопередачи все свои развлечения строили на этих пытках. Ребенка ничто так не очаровывает, как рассказы о пытках. С наичистейшей совестью, с патриотическим пылом дети мечтали, говорили, разыгрывали оргии физического насилия. Фантазии свободно блуждали в разведке от Голгофы до Дахау[3].
В Европе дети голодали и смотрели, как их родители замышляют мятеж и гибнут. Мы же здесь росли с игрушечными плетками. Первое предостережение против наших будущих лидеров, детенышей войны.
10
У них была Лайза, у них был гараж, им нужна была бечевка, красная бечевка для крови.
Без красной бечевки они не могли войти в глубокий гараж.
Бривман вспомнил про катушку.
Кухонный ящик – ступенька от мусорного ящика, а тот – ступенька от уличного мусорного ящика, а тот – ступенька от выпотрошенных броненосцев-мусоровозов, а те – ступенька от таинственных вонючих мусорных куч на берегу Святого Лаврентия.
– Шоколадного молочка выпьешь?
Было бы неплохо, если бы мать хоть чуточку уважала то, что действительно важно.
О, это превосходный кухонный ящик, даже если отчаянно торопишься.
Возле коробки с перепутанной бечевкой лежали свечные огарки, оставшиеся после многих лет субботних вечеров, их хранят в бережливом предвкушении ураганов, латунные ключи от сменившихся замков (трудно выкинуть такую тщательно и искусно сделанную штуку, как металлический ключ), прямые ручки с засохшими чернилами на перьях, их можно оттереть, если постараться (объясняла мать горничной), зубочистки, которыми никогда не пользовались (особенно для чистки зубов), сломанные ножницы (новые хранились в другом ящике: они и через десять лет все еще назывались «новые ножницы»), использованные резиновые кольца от банок домашних консервов (маринованные помидоры, зеленые, мерзкие, плотнокожие), дверные ручки, гайки, весь этот домашний мусор, хранимый алчностью.
Он вслепую пошарил в коробке с бечевкой, поскольку ящик никогда не открывался до конца.
– Печенюшка, кусочек медовой коврижки, есть целая коробка миндальных пирожных?
Ага! ярко-красная.
Рубцы танцевали по всему воображаемому лайзиному телу.
– Клубника, – окликнула мать, будто прощаясь.
Дети особым способом проникают в гаражи, сараи, на чердаки – так же, как вступают в огромные залы и семейные часовни. Гаражи, сараи и чердаки всегда старше зданий, к которым прилепились. Наполнены темным благоговейным воздухом громадного кухонного ящика. Дружелюбные музеи.
Внутри было темно, пахло маслом и прошлогодними листьями, которые крошились под ногами. Влажно мерцали куски железа, края лопат и консервных банок.
– Ты американка, – сказал Кранц.
– Нет, – сказала Лайза.
– Ты американка, – сказал Бривман. – Двое против одного.
Огонь зениток Бривмана и Кранца был очень плотен. В темноте Лайза предприняла дерзкий маневр, вытянув руки.
– Эхехехехехехех, – заикались ее пулеметы.
Она подбита.
Вошла в эффектное пике и в последний момент катапультировалась. Покачиваясь с ноги на ногу, она плыла по небу, глядя вниз, зная, что ей крышка.
Великолепная танцовщица, подумал Бривман.
Лайза наблюдала, как к ней приближается Кранц.
– Achtung. Heil Hitler![4] Ты пленница Третьего рейха.
– Планы я проглотила.
– Ми имеем спосопы.
Ее отвели и уложили лицом на раскладушку.
– Только по попе.
Ух ты, они белые, совершенно белые.
Ее небольно отхлестали красной бечевкой по ягодицам.
– Повернись, – скомандовал Бривман.
– Мы договаривались: только по попе, – возмутилась Лайза.
– То в прошлый раз, – возразил законник Кранц.
Ей пришлось все снять и сверху тоже, и раскладушка исчезла из-под нее, а она плыла в осенней тьме гаража, в двух футах над каменным полом.
О боже, боже, боже.
Когда настала его очередь, Бривман стегать отказался. По всему ее телу росли белые цветы.
– Что это с ним? Я одеваюсь.
– Третий райх не топускает непофинофения, – сказал Кранц.
– Повесим ее? – спросил Бривман.
– Орать будет, – ответил Кранц.
Теперь, вне игры, она заставила их отвернуться, пока натягивала платье. Солнечный свет, который она впустила, уходя, превратил гараж в гараж. Они сидели молча, красная бечевка куда-то завалилась.
– Пошли, Бривман.
– Она прекрасна, правда, Кранц?
– Что в ней такого прекрасного?
– Ты же видел. Она прекрасна.
– Пока, Бривман.
Бривман поплелся за ним во двор.
– Она прекрасна, Кранц, ты разве не видел?
Кранц заткнул уши. Они прошли мимо Древа Берты. Кранц пустился бежать.
– Она была совершенно прекрасна, признайся, Кранц.
Кранц бегал быстрее.
11
Один из первых грехов Бривмана: он украдкой глянул на револьвер. Отец хранил его в ночной тумбочке между своей кроватью и кроватью жены.
Револьвер был громадный, 38-го калибра, в толстой кожаной кобуре. На стволе выгравированы имя, звание и номер полка. Смертоносный, угловатый, определенный, опасной мощью он тлел в темном ящике. Металл всегда холоден.