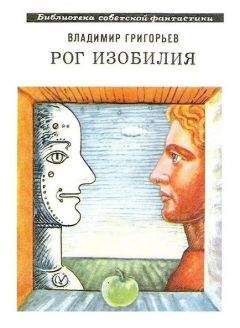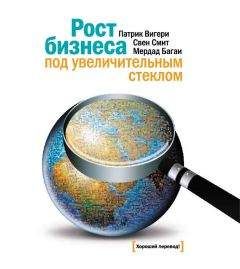«Великая Австралийская Пустыня», открывшаяся писателю по возвращении на родину, бросила ему вызов. Вызов был принят, и с этой минуты творчество Уайта устремилось в определенное социально-психологическое русло, а его вымышленная вселенная обрела твердый фундамент австралийской почвы, на который опирается сложнейшая, причудливая художественная арматура его романов.
Облик страны, встающий со страниц книг Уайта, радикально расходится с образом Австралии, каким он сложился в официальной социальной мифологии. Миф, небезуспешно интегрировавший и далеко не простую, хотя сравнительно недолгую историю континента, и даже наследие такого острого критика австралийской действительности, как Генри Лоусон, рисует Австралию краем безграничных возможностей и славных романтических традиций, где человек сам распоряжается своей судьбой, а молодая здоровая нация состоит из красивых, жизнерадостных, трудолюбивых и беззаботных людей, которые верят в бога и избранное демократическим путем правительство, которые грубоваты в общении, но по существу – добрые компанейские ребята, чуть-чуть бесшабашные, любящие иной раз приврать и выпить лишнее, но в целом – народ надежный и сердечный, смело идущий путем процветания и прогресса.
Как всякий социальный миф, официальный образ Австралии возник не на пустом месте. Он опирается на факты, которые умело подбираются, подгоняются и – любимое словечко апологетической социологии – интерпретируются. Патрик Уайт, имевший случай познакомиться с различными мифологическими системами, от античной до фашистской, вероятно, знает об этом лучше многих. Он с уважением относится к факту. Он видит и показывает в своих произведениях такие действительно прекрасные черты австралийского национального характера, как трудолюбие, жизнеспособность, дух первооткрывательства и солидарности. Но к мифу Уайт не питает доверия. Его интересует то, что стоит за мифом: реальная жизнь, которой живут люди за фасадом внешнего благополучия, больше того – та реальная жизнь, которой человек живет наедине с самим собой. Его интересует то, как человеческий характер проявляет себя в различных социальных и житейских обстоятельствах и к каким последствиям для человека это может вести.
Писавшие об Уайте почти не касаются социального содержания его книг, видимо, потому, что оно не лежит на поверхности. Уайт никогда не ставит социальных проблем в «чистом» виде, а если они и выступают на первый план, что бывает у него крайне редко, так только в связи с задачей художественного исследования характера, как это происходит в последнем его романе «Око бури» (1973), где бальзаковская тема всесилия и бессилия денег выходит в число ведущих. Нет в его творчестве и прямого отклика на события политической и общественной жизни Австралии. Сюжеты произведений Уайта, их идейно-философская основа нередко приобретают интенсивно общечеловеческий смысл, так что выбор Австралии местом действия может, на иной взгляд, показаться номинальным. Даже австралийский пейзаж в его романах, исключая, пожалуй, «Древо человеческое», настолько сливается с характером, что становится как бы эманацией психологического состояния персонажей и утрачивает сходство с реальным ландшафтом. «Его пейзажи не снимешь на кинопленку», – проницательно заметил соотечественник Уайта, писатель и литературовед Хэл Портер.
Учитывая все это, может показаться не совсем понятным то последовательное неприятие Уайта в официальных австралийских кругах, о котором писал Д. Даттон. Но официальные круги проявили в данном случае куда больше понимания или интуиции, чем иные литературные критики. Эти круги почувствовали специфику уайтовской социальности. Уже «Тетушкина история» со всей очевидностью свидетельствовала: Патрик Уайт – не из тех авторов, кто будет умиленно взирать на любое, в том числе и австралийское материальное процветание, воздержавшись от вопроса о том, какими духовными издержками оно оплачено. «Древо человеческое» знаменовало переход Уайта к открытой полемике с австралийским мифом, которую он продолжает и развивает каждым новым произведением. Так что позиция официальных кругов в конечном счете выглядит не такой уж бессмысленной.
Затерявшийся в австралийской «глубинке» и не существующий на картах поселок Дьюрилгей («Древо человеческое»). Девственные чащобы австралийского леса, куда уходит горстка исследователей, случайных, чужих друг другу и несчастных каждый по-своему людей, которых собрал и повел к гибели безумец, одержимый идеей то ли доказать богу, что может его побороть, то ли доказать самому себе, что он и есть бог (роман «Фосс», 1957). Вымышленный среднебуржуазный пригород Сиднея Сарсапарилла и сам Сидней в романах «Едущие в колеснице» (1961), «Прочная ма́ндала» (1966), «Вивисектор» (1970), рассказах из сборников «Обожженные» (1964) и «Попугайчики» (1974). Для Уайта все это – разные участки одной и той же «Великой Австралийской Пустыни», где такие главные, в глазах писателя, формы приобщения человека к абсолюту, природе и себе подобным, как любовь, труд, искусство и вера, подвергаются ежечасному поруганию.
В книгах Уайта миф предстает с изнанки. Процветание оборачивается элементарной нищетой либо «благородной» бедностью – одинаково уродливыми и унижающими человека. Романтика тождественна бродяжничеству, стремление пробиться к успеху собственным трудом приводит к чудовищному перенапряжению физических и духовных сил, последствия которого Уайт умеет показать во всей их физиологической наглядности. Практическая сметка и упорство в достижении цели помогают человеку продать себя по максимальной цене (линия Тельмы в «Древе человеческом»). Дух первопроходчества открывает дорогу к ницшеанскому «все дозволено» и в итоге – к саморазрушению личности («Фосс», «Вивисектор»). Жизнерадостность перерождается в нравственную глухоту эгоизма, удалая бесшабашность – в наглую безответственность, а в озверевшей от шовинистического угара толпе даже солидарность выливается в слепое насилие («Едущие в колеснице»)[5]. Наконец, место бесконечных обещанных мифом перспектив в художественном мире Уайта занимает весьма конечная смерть.
Зарубежная критика, думается, сильно преувеличивает живописание «танца смерти» в творчестве Уайта. Он не абсолютизирует смерть, хотя дает ощутить ее постоянное присутствие в жизни. Для него смерть – естественная неизбежность, которой поверяется действительная ценность прожитой человеком жизни. В смерти нет ничего мистического или метафизического, и сопряжение смерти и быта – наиболее частый источник гротеска в его произведениях. Но смерти в официальной мифологии, понятно, не может быть места, как и многому другому, о чем пишет Уайт.
Самое существенное расхождение между Патриком Уайтом и австралийским мифом приходится, однако, на область идеала. Писатель не желает принять за идеал «мишуру изобилия» и «лакированные ягодицы автомобилей». Он видит идеал совсем в другом: в труде, доброте, терпимости и самопожертвовании. Можно, конечно, спорить об известной ограниченности такого идеала, но уж совершенно бесспорно, что с официальным идеалом бурно процветающего общества он не имеет ничего общего.
Характеры Уайта сотканы из противоречий и раскрываются в смене взаимоисключающих импульсов, поступков и душевных движений. Среди его персонажей нет ни одного безнадежно плохого, пропащего, злодея, тогда как характеры, приближающиеся к представлению Достоевского о «положительно прекрасном человеке», есть в любом романе Уайта. Это Теодора («Тетушкина история»); это Долл Квигли из «Древа человеческого» – «чистота ее бытия» и ее облик раздражают окружающих «совершенством доброты»; это поденщица миссис Годхолд («Едущие в колеснице») и «простая душа» Артур Браун в романе «Прочная мандала». Как Достоевский в денежно-чиновничьей России связывал свой идеал с теми, кто «не от мира сего», так и Патрик Уайт среди материального процветания и буржуазного прогресса находит воплощение идеала в людях, пребывающих вне этого прогресса и процветания, – в «блаженненьких», чудаковатых, беззащитных и вытесненных из жизни. Речь может идти, вероятно, не только и не столько о прямом влиянии Достоевского, хотя Уайт неоднократно говорил о том могучем воздействии, которое оказал на него опыт мастеров классической русской литературы, в первую очередь Достоевского. Скорее можно сказать о сходной у Уайта и Достоевского логике и направленности художественного поиска и о закономерном, вследствие этого сходства, сближении их концепций идеального.
Носители идеального начала в книгах Уайта непременно наделены каким-нибудь физическим или психическим изъяном, делающим их непривлекательными внешне и несовместимым с классическим каноном прекрасного. У Долл Квигли, например, безобразный зоб, а ее постоянный спутник – младший брат Баб, вырастающий в слюнявого великовозрастного дурачка. Здесь есть элемент полемики с австралийским мифом, включающим, среди прочего, культ силы, здоровья и физической красоты, однако не это главное.