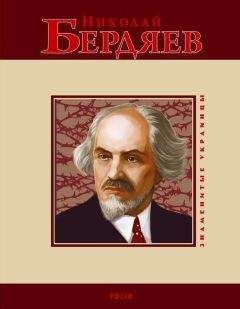— Издеваешься?! Смеешься над людьми, которые тяжким трудом, в ужасных условиях…
— Нет, не за сорок, конечно, это я загнула. За двадцать пять…
Я опять сняла шляпу и положила на фанерный прилавок.
— Постой! — он понял, что я собираюсь уйти. — Могу сбавить пять шекелей просто из симпатии. Она тебе очень идет. Я глаз не могу отвести.
— В твоем возрасте это нездорово. Если сейчас ты не отдашь мне этот ночной горшок за сорок шекелей, разговор окончен…
— Забирай за шестьдесят пять, и будешь благодарить меня!
— Я уже благодарна тебе по гроб жизни, ты меня развлек. Накрой своей шляпой знаешь что? Сорок пять шекелей — звездный час этой лохани, и не отнимай моего драгоценного времени…
— Шестьдесят пять, и разойдемся, довольные друг другом!
— Я и так довольна. Мой-то кошелек при мне. А ты торчи здесь, на солнцепеке, до прихода Машиаха.
И повернувшись, под призывно возмущенные его вопли — вот теперь главное не оглядываться, тем более что в кошельке у меня всего тридцать пять шекелей, а надо еще домой возвращаться, — бодро пошла прочь.
Но шагов через пятьдесят остановилась у ближайшего кафе и села за плетеный столик, вынесенный в тень старого дородного платана.
В три часа дня, в вязкую августовскую жару я была единственной чуть ли не на всей улице, если не считать старика-шляпника и легиона неустрашимых кошек, которых в изобилии плодит Иерусалим.
— Кофе… двойной, покрепче… И коньяку плесни…
— Минутку, гевэрет! — воскликнул бармен и принялся весело насыпать и смешивать, звякать ложечкой, нажимать на рычаг кофейного аппарата… При этом он успевал приплясывать, подпевать музыке, отщелкивать пальцами ритм на всем, что под руку попадется. Его темные кудри библейского отрока с картины художника Иванова были щедро умащены какой-то парфюмерной дрянью, какой любят намазывать свои овечьи руна местные юнцы и юницы…
Из-под тента лотка, под щитом, с которого на прохожих мчался, чуть ли не вываливаясь за край, будущий трамвай, похожий на удава с глазами красавицы-японки, за мной наблюдал толстый шляпник. С видом последнего иудейского пророка он восседал на табурете и делал мне какие-то знаки. Я достала из сумки очки, надела их и расхохоталась: старая сволочь показывал оттопыренный средний палец правой руки, — очевидно, потерял надежду залучить меня под свою шляпу.
Я смотрела на неугомонные руки бармена, вдыхала облачко ванили, поднятое брошенным на блюдце кренделем, и думала — что я делаю, что я делаю?!
Эта тихая улица, кренящаяся вправо, словно стремилась улечься в уже отросшую тень своих туй и платанов, весь этот город на легендарных холмах, с его ненадежными домами, мимолетными людьми, вечными оливами, синагогами, мечетями и церквами… — весь этот город, колыхаемый сухими струями горного воздуха, пришелся мне впору, тютелька в тютельку, — натягивался на меня, как удобная перчатка на руку… Мне было привычно ловко, привычно жарко и привычно лениво в этом городе, и — видит Бог! — дорога к этому кафе в Долине Призраков заняла у меня не так уж и мало лет.
Так что же, черт меня возьми, я опять делаю с нашей жизнью?!
Ночью я поднялась попить, прошлепала в кухню, босыми ступнями выглаживая теплый камень пола. В темноте на журнальном столике белела газета со вчерашними тревожными новостями… С более чем всегда тревожными новостями…
Я выглянула в открытое окно и вдохнула глубину августовской ночи в безмолвном расцвете звездных полян. Далеко внизу цепочка мощных фонарей выжгла гигантскую петлю дорожной развязки Иерусалим — Мертвое море; влево, мимо белеющей срезом снятой груди холма пойдет новая дорога через Самарию… Над Масличной горой вдали — желто-голубое облако огней. Легчайшая взвесь предрассветной тишины… Уже и подростки разошлись по домам после нескольких часов блаженной ночной свободы… Нет более благостного места, чем эта земля накануне очередной войны…
Я вернулась в комнату, бесшумно легла… До утра оставалось дотянуть часа три…
— Ну? — тихо спросил рядом внятный голос мужа. — Третью ночь колобродишь. Так же спятить недолго! Ну их к черту, эти деньги! Жили до сих пор, с голоду не помирали, подаяния не просили…
— Да, — глухо подтвердила я.
— Представь эти долгие зимы, слякоть, тусклую тьму…
— Представляю…
— Давку в метро, огромный неохватный город, хамство российское, милицию-прописку… И нашу беспомощность и бесправность…
— Еще бы…
— …к тому же, и службу с утра до вечера…
— Да…
— …быть заложником организации, а значит, идеологии… С какой стати ты, вольный разбойник, вдруг встанешь под знамена? Ну их к черту, все они друг друга стоят!
— Вот именно…
Он в темноте, как слепец, провел ладонью по моему лицу.
— Значит, отказываемся. Да?
— Да.
— Решено?
— Решено.
— Ну и молодец. Спи…
Не продремав ни минуты, утром я набрала номер департамента Кадровой политики Синдиката.
— Я все взвесила… — сказала я. — Благодарю за предложение, весьма заманчивое и лестное… Надеюсь, вы правильно меня поймете… Видите ли, род моих занятий вряд ли совместим с обязанностями…
— Не понял! — отрывисто буркнули в трубке. — Род моих занятий любит ясность. Ты согласна или нет?
Я оглянулась на мужа. Он стоял, сцепив обе руки замком, показывая мне молча: «Будь тверже!»
Я отвернулась. В окне виднелся краешек сосновой рощи на соседнем холме, с двумя кибитками пастухов-бедуинов, вдали — гора Скопус с башней университета, соседняя арабская деревня, торопливо заставленная коробками недостроенных домов… И надо всем — пустынное небо с прочерком шатуна-коршуна…
Все то, на что я смотрю уже десять лет… Десять лет…
— У меня ни минуты нет на твои «пуцы-муцы»! Сейчас ответь — согласна ты или нет?
— Согласна, — сказала я.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
За неделю до отъезда, посреди растерянной суеты сборов, бессмысленных покупок, беспомощной беготни и ежедневного подписывания неисчислимых и нечитаемых мною бумаг в Долине Призраков, (так что я б уже и не удивилась появлению призраков в моем, помутневшем от жары и напряжения, сознании), — нам удалось вырваться в Хоф-Дор, тем самым хоть на два дня оборвав затяжную истерику четырнадцатилетней дочери, не желавшей уезжать «ни в какую вашу дурацкую Россию».
Мы любили этот изрезанный кружевными петлями берег Средиземного моря между Хайфой и Зихрон-Яаковом; под высоким горбом ракушечного мыса — неглубокую бухту, на дне которой в ясную погоду видны ноздреватые базальтовые плиты — развалины затонувшего финикийского города; любили круглые белые домики-«иглу» на травяных лужайках между неохватных старых пальм; неказистый, окруженный частоколом деревянных кольев, воткнутых в песок, «Бургер-ранч», с колченогими скамейками и столами, — весь этот пляжный рай в двух босых шагах от моря с его самозабвенной, переменчивой, неугомонной игрой синего с бирюзовым…
И все два дня плавали до изнеможения, до одури, безуспешно пытаясь смыть с души тягостную двойную тревогу — в ожидании «нашей» России и в ожидании нашей здешней неминуемой войны, которая уже набухала, уже сочилась гноем из всех старых ран и запущенных нарывов…
Дочь оплакивала свою жизнь.
— Вы — эгоисты!! — кричала она нам: — Через три года я буду старая, понимаете?! — старая, и всем здесь чужая!
Вечером она бродила в длинной юбке по воде, путаясь босыми ногами в тяжелом подоле, и до поздней ночи сидела с несчастной прямой спиной на горбу ракушечного мыса, глядела в море и тосковала впрок…
Из влажной глубины ночи с ропотом рождалась волна, быстро перебирая валкий гребень лохматыми лапами белой пены, дружной шеренгой катилась к нам, но выдыхалась, таяла, и к мысу доплывала тончайшей кружевной шалью, фосфоресцирующей в латунном свете луны… А за ней, рыча, уже бежала другая шеренга дружных болонок из пены, и бесконечный их бег сминал любую надежду, любую робкую надежду на отмену неотвратимого…
…Наутро мы уезжали.
В последний раз сбегали искупаться «на минутку», и часа полтора никак не могли расстаться с морем. Наконец я повернула и поплыла к берегу в кипящей солнечными иглами воде, и с каждым моим подъемом на гребень волны медленно приближалась огромная пальма на берегу, взмывая в небо и опускаясь, взмывая и опускаясь…
Я плыла над черными базальтовыми плитами, над развалинами финикийского города, бытовавшего под этим небом и упокоенного на песчаном дне в такой дали времен, о которой могли рассказать — и неустанно рассказывали — только эти волны; я плыла, пока не нащупала ногами дна, встала и побрела, отирая ладонями мокрое лицо…
Мои на берегу размахивали руками, указывая куда-то вверх…
Я закинула голову: два дельтаплана, покачиваясь, парили в дымной голубизне навстречу друг другу: белый, с оранжевыми полосами, и желтый, с зелеными. Казалось, они играли в какую-то игру, переговаривались, кивали друг другу, подшучивали… Их темно-зеленые тени скакали по мелким волнам. Вода подсыхала на моем лице долгими жгучими каплями.