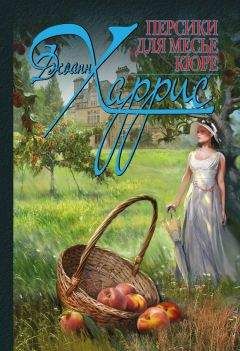Казалось бы, чего мне еще хотеть?
Все началось несколько дней назад, когда я у нас на камбузе возилась с трюфелями. В такую жару только трюфели можно делать более или менее без опаски; любые другие шоколадные конфеты рискуют вскоре испортиться — либо от хранения в холодильнике, либо от этой несносной жары, которая до всего добирается. Для приготовления трюфелей нужно слегка нагреть шоколадную глазурь на плите, затем переместить ее в чуть теплую духовку, добавить специи, ваниль и кардамон и дождаться момента, когда простое кухонное действо превратится в акт домашней магии.
Чего еще могла бы я пожелать в такой момент? Ну, может быть, только легкого ветерка; самого легкого, как нежное прикосновение, как поцелуй в ямку на шее под затылком, где мои волосы, заколотые в неопрятный узел, уже начали на проклятой жаре попахивать потом…
Самого легкого ветерка… А что? Разве в таком желании есть что-то дурное?
И я призвала его, этот ветерок, — едва заметный, теплый, игривый ветерок, который гоняется за облачками в небе, словно котенок.
V’la l’bon vent, v’la l’joli vent,
V’la l’bon vent, ma mie m’appelle…[6]
Правда-правда, я вызвала совсем маленький ветерок; просто легкое дыхание и легкое свечение в воздухе, подобное чьей-то улыбке; и этот вздох ветра принес с собой отдаленный аромат цветочной пыльцы, специй, пряников. На самом деле мне всего лишь хотелось, чтобы этот ветерок немного причесал облака в летнем небе, принес в наш тесный уголок ароматы иных мест…
V’la l’bon vent, v’la l’joli vent…
И повсюду на Левом берегу сразу, точно бабочки, запорхали в воздухе фантики и обертки от сластей; но игривый ветерок не унимался и задрал юбку какой-то женщине, шедшей через Сену по мосту Искусств, — оказалось, это мусульманка, лицо ее было закрыто черным покрывалом, никабом, теперь в Париже очень много мусульманок в никабах, — и на мгновение мне вдруг показалось, что из-под ее покрывала блеснуло нечто неясное, и сразу же над нею в раскаленном воздухе возникла дрожащая дымка, а тени от деревьев, потревоженных дыханием ветра, вдруг превратились на пыльной воде в какие-то дикие абстрактные письмена…
V’la l’bon vent, v’la l’joli vent…
Мусульманка, шедшая по мосту, на мгновение остановилась и посмотрела на меня. Лица ее под никабом разглядеть, разумеется, было невозможно — я видела только глаза, сильно подведенные сурьмой. Но она смотрела на меня так внимательно, что я вдруг подумала: а что, если мы с ней знакомы? На всякий случай я подняла руку и помахала этой женщине. Нас разделяла неторопливо текущая Сена и становившийся все сильнее аромат шоколада, который доносился из открытого окошка нашей маленькой кухоньки.
Попробуй. Испытай на вкус. На мгновение мне показалось, что эта женщина сейчас тоже махнет мне рукой, но она лишь опустила темные глаза и, отвернувшись, двинулась дальше по мосту — безликая, вся в черном — навстречу ветру, принесенному рама-даном.
Пятница, 13 августа
Нечасто доводится получать письма от мертвых. Письмо было из Ланскне-су-Танн; и не просто письмо, а письмо в письме. Его нам прислали, разумеется, до востребования (ведь в плавучие дома почту не доставляют), и принес его Ру; он заглянул на почту, когда, как обычно, ходил за хлебом.
— Да самое обыкновенное письмо, — сказал он мне и пожал плечами. — И совсем не обязательно, чтобы это что-нибудь такое значило.
Но тот ветер дул уже и весь минувший день, и всю ночь, а мы такому ветру никогда не доверяли. К тому же сегодня он еще и стал порывистым, то и дело менял направление и разрисовывал поверхность молчаливой Сены мелкой рябью, похожей на запятые. Розетт, точно игривый котенок, упражнялась в прыжках на набережной у самой воды, играя с Бамом. Бам — это невидимый дружок Розетт; впрочем, невидимый он отнюдь не всегда. Мы, во всяком случае, видим его довольно часто. Даже наши покупатели порой его видят, особенно в такие дни, как этот; и Бам тогда лукаво посматривает на них с моста или свисает с ближайшего дерева, уцепившись хвостом за ветку. Розетт, разумеется, видит его постоянно — но, с другой стороны, и сама Розетт не такая, как все.
— Самое обыкновенное письмо, — снова сказал Ру. — Просто вскрой конверт и прочти.
Я доделывала последние трюфели и собиралась уже разложить их по коробкам. Шоколад вообще сохранить непросто, нужна правильная температура, а уж на нашем-то суденышке, где так мало места, лучше готовить что-нибудь самое простое. Например, трюфели. Во-первых, делать их очень легко, а во-вторых, порошок какао, в котором их обваливают, предохраняет шоколад от таяния. Коробки с готовыми трюфелями я храню под кухонным столом; туда же я убираю подносы со «старыми ржавыми железками» — гаечными ключами, отвертками, гайками и болтами; глядя на них, можно поклясться, что они настоящие, хотя на самом деле сделаны из шоколада.
— Да мы уж восемь лет как оттуда уехали, — сказала я, катая трюфель на ладошке. — И, между прочим, от кого оно, это письмо? Почерк я что-то не узнаю.
И тогда Ру сам вскрыл конверт. Он всегда поступает так, как проще всего. И всегда действует сразу; всяческие размышления он, в общем-то, считает излиш-ними.
— Письмо от Люка Клермона.
— От маленького Люка?
Я вспомнила неуклюжего подростка, который страшно стеснялся своего заикания. Господи, вдруг подумала я, да ведь теперь-то Люк, должно быть, совсем взрослый! Ру развернул листок и стал читать вслух:
Дорогие Вианн и Анук!
Как много времени уже прошло! Надеюсь все же, что это письмо до вас дойдет. Как вы знаете, когда умерла моя бабушка, она оставила мне все — и свой дом, и все свои деньги, и некий запечатанный конверт, который я не должен был вскрывать, пока мне не исполнится двадцать один год. День рождения у меня был в апреле, тогда я и вскрыл этот конверт, а внутри оказалось письмо, адресованное вам.
Ру вдруг умолк. Я повернулась к нему и увидела, что он держит в руках простой белый конверт, немного помятый, словно отмеченный морщинами прожитых лет и многочисленными прикосновениями живых рук к мертвой бумаге. На этом конверте темно-синими чернилами было написано мое имя. Да, рукой Арманды — ее пораженной мучительным артритом, но властной рукой — было старательно выведено мое имя…
— Арманда… — только и сумела вымолвить я.
Ах, мой дорогой старый друг! Как это странно — и как печально — спустя столько лет получить от тебя весточку! Вскрыть запечатанный тобою конверт, сломать поставленную тобой печать, от времени ставшую совсем хрупкой. Краешек этого конверта ты, должно быть, облизала, прежде чем запечатать, как облизывала ложечку, вынув ее из чашки с моим сладким крепким шоколадом, — сладострастно, жадно, как ребенок. Ты всегда видела значительно дальше, чем я, — и меня тоже заставляла смотреть дальше, нравилось мне это или нет. И сейчас я совсем не была уверена, хочется ли мне, готова ли я узнать, что там, в этой весточке из мира мертвых, но ты-то хорошо знала: я так или иначе ее прочту.
Дорогая Вианн! (Так начиналось письмо, и я прямо-таки услышала голос Арманды: сухой, как порошок какао, и такой же нежный.)
Я помню, как в Ланскне впервые провели телефон. У-у-у! Какое смятение это вызвало! Каждому хотелось испытать новый аппарат. Епископа, которому, собственно, телефон и поставили, буквально по уши засыпали всевозможными подарками и подношениями — лишь бы позволил позвонить. Ну, если людям казалось, что телефон — это настоящее чудо, то можешь себе представить, что бы они подумали об этом письме. И обо мне, которая ведет с тобой переписку из мира мертвых. Да, кстати, если тебе это интересно, то шоколад в раю действительно есть. Передай месье кюре, что тебе об этом сообщила именно я. Заодно и проверишь, научился ли он понимать шутки.
Я перестала читать и на минутку присела на одну из табуреток.
— Все нормально? — с тревогой спросил Ру.
Я молча кивнула. И снова углубилась в письмо:
Восемь лет. За восемь лет многое может случиться, верно? Маленькие девочки начинают взрослеть. Времена года успевают много раз сменить друг друга. Люди уезжают, приезжают, переезжают из дома в дом. Мой внук уже совершеннолетний — двадцать один год! Хороший возраст, это я еще помню. А ты, Вианн, — ты тоже уехала из Ланскне? Думаю, да. Ты не была готова остаться. Но это вовсе не означает, что когда-нибудь ты там не останешься, — запри кошку в доме, и единственное, к чему она будет стремиться, это вновь оказаться на улице. Но если ее оставить на улице, она будет мяукать под дверью до тех пор, пока ее не впустят в дом. Люди, в общем, ведут себя примерно так же. Ты сама это поймешь, если когда-нибудь туда вернешься. Но с какой стати туда возвращаться? Я будто слышу, как ты это спрашиваешь. Нет, я не утверждаю, что способна заглянуть в будущее. Во всяком случае, если я что-то там и вижу, то весьма смутно. Но ты однажды здорово встряхнула Ланскне, хотя и не все тогда восприняли это положительно. И все же, как известно, времена меняются. Мне, во всяком случае, ясно одно: раньше или позже, а в Ланскне ты вновь понадобишься. Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе, когда это случится. Так что уважь меня в последний раз: съезди в Ланскне. И детей с собой возьми. И Ру — если, конечно, он с тобой. Положишь цветочки на могилу одной старой дамы. Только не из магазина Нарсиса, а настоящие, полевые. Поздороваешься с моим внуком. Выпьешь чашку шоколада.