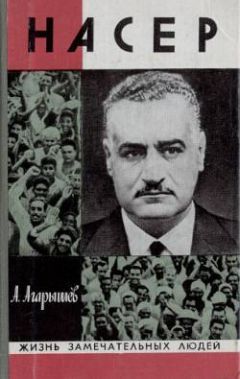– Да нет, что ты! Дети хорошие. Умненькие такие. Половину перемены, правда, на головах стоят, зато другую половину книжки читают. Подходит такой вот шкет и спрашивает: «Учитель, а что выдумаете о теории Карла Маркса?» Неслабо, правда? А про человеческие качества и вообще говорить нечего. Там есть парнишка – зовут его... ну, чтобы не получилось злословия – скажем, Офер. Так вот, он начисто лишен обоняния и при этом страдает энурезом – знаешь, что это такое?
Эван кивнул:
– Да. Недержание мочи.
– Вот-вот. Его-то самого вожатый в душ постоянно гоняет, так что сколько рядом ни стой, ничего не заподозришь. Зато в комнату к нему войти невозможно. А в комнате, между прочим, еще два человека обитают. Вызвал их директор, все, говорит – ребята, хорош мучиться, давайте я вас под каким-нибудь предлогом переселю в другую комнату. А те: нет, он не догадывается, что в ешиве знают о его болезни. Если уйдем – поймет, и ему больно будет! Проходит пара месяцев – уже по коридору мимо его двери пройти нельзя – так шибает. Директор снова к ним. Те – ни в какую. В общем, кончилось тем, что один из них сознание потерял. Тогда их в приказном порядке в другую комнату перевели. Два часа проходит – к директору являются двое других его одноклассников: поселите нас с Офером, чтобы ему обидно не было. Мы не просим – требуем!
– Да, – восхищенно протянул Эван. – Цадики!{Праведники.}
– Цадики, – согласился Арье. – Только после урока с этими цадиками я выхожу, как будто по мне катком проехали. Директор говорит – скажи, кто нарушал! А никто! Все очень милы, все меня любят. Просто им мама с папой забыли объяснить, что, когда учитель начинает говорить, это не означает, что ты, чтобы ему скучно не было, тоже должен начать говорить, за компанию, значит, или, скажем, гулять по классу, или заниматься каким-нибудь интересным, увлекательным, а то и общественно-полезным делом. Короче, никто специально не мешает, только урок в труху рассыпается. Ну ладно, хватит об этом. Что у нас с прогулкой по ночной Самарии?
На секунду Эван онемел от изумления.
– К-какой прогулкой?
Арье расхохотался.
– Конспиратор! Да ведь я из Элон-Море осуществлять буду связь с вами. Так что я все знаю – и то, что шестнадцатого вечером вы выходите, и сколько вас, и в чьей ты группе. В группе Натана Изака, верно?
– Верно, но... но я никуда не иду.
Теперь уже онемел Арье.
– Ты что?!
Эван молчал.
– Ты же всегда был такой... такой сионист!
– Был, – подтвердил Эван, почесывая за ушами постанывающего от счастья Тото. – Был и есть. Но участвовать в безнадежном предприятии не хочу.
– Ты считаешь, его на сто процентов безнадежным?
– На двести. А ты?
– Ну, не знаю...
Арье смущенно скользнул взглядом мимо Эвана куда-то в сторону, где солнечные лучи, проникая в дом сквозь открытые двери веранды, целовались со стеклянными дверцами книжного шкафа.
– Все ты знаешь, – сказал Эван. – Знаешь, что, пока у власти Шарон, ни о каком возвращении ни в Гуш-Катиф, ни к нам речь идти не может. Его не зря зовут Бульдозером. Он шел напролом, когда давил арабов. Он шел напролом, когда давил нас. Может быть, я ошибаюсь, но по-моему, это не тот правитель, которого можно поставить перед свершившимся фактом, захватив обратно то поселение, которое он у тебя отобрал. Это все же Шарон, а не слабак какой!
– Так что же делать предлагаешь?
Эван пожал плечами.
– Ждать.
– Чего?
Эван молчал. Арье опять рассмеялся.
– Слушай, когда две недели назад у Шарона был микроинсультик, ты, наверно, на радостях галель{Благодарственная молитва, возносимая в праздники.} прочитал?
Эван серьезно ответил:
– Хорошие мы будем евреи, если начнем радоваться чужому несчастью...
– Ну ладно, ты не веришь в успех, но ведь и сидеть сложа руки тоже... Почему бы не рискнуть? Что ты, в конце концов, теряешь?
– Что касается меня, то я теряю все.
– А именно?
– Вику.
* * *
В деревенской мечети было достаточно тобут – носилок с раздвижной крышкой – хотя до сих пор ни разу столько народу одновременно не хоронили. На носилки положили одеяла, а на них – убитых. Затем задвинули крышки и сверху покрыли материей.
Мулла встал между носилками. Никаких рукны, коленопреклонений, и саджа, падений ниц, не было. Мулла трижды произнес «ас-салат!», приглашая тем самым всех к молитве, и осведомился у родственников покойных, не осталось ли у тех каких-либо долгов. Особенно это было актуально в отношение Маруана. Тут все взгляды благоговейно обратились к гордо потупившему взгляд Мазузу, щедро оплатившему долги погибшей семьи из кармана... теперь уже, разумеется, кармана Таамри. Затем мулла воззвал к Аллаху с просьбой о прощении грехов и милости к покойному. В этом обращении к Небесам содержалось четыре такбира, иными словами, в ней четырежды прозвучало «Аллаху акбар!» По традиции, тела в могилы опускали ногами вниз, над Анни при этом держали покрывало, чтобы мужчины не смотрели на нее. Никаких гробов, разумеется, не было. В могилы стали бросать горстями землю, произнося айят из Корана «Все мы принадлежим Аллаху и возвращаемся к Нему». Когда могилы были засыпаны так, что возвышались над уровнем земли на четыре пальца, их полили водой, кинули еще семь горстей земли и прочли еще один айят: «Из Него сотворили вас, в Него возвращаем вас, из Него изведем вас в другой раз». Громкое оплакивание запрещено, но на этих похоронах и тихого не было. Было оцепенение. Ужас. Да еще полные ненависти взгляды в сторону разрушенного Канфей-Шомрона, словно точно знали, что еврейские убийцы, перестрелявшие семью мучеников пришли именно оттуда. Все это бойко фиксировали корреспонденты с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы скорее сообщить во все концы мира о новом зверстве израильтян. Очевидец рассказывал:
– Вон там, мимо того холма, проехали их джипы. Была глубокая ночь, и мы не ожидали набега...
Его перебивала свидетельница:
– Маленькая Надя так просила, так просила: «Дяденьки-евреи, дяденьки-евреи, не убивайте моего папу!» А потом – автоматная очередь – и тишина.
– А как рыдала Анни, – вступала другая свидетельница, молодая женщина в черном платке. – «Хоть одного из детей оставьте! Хоть одного!» Потом и ее...
И вновь настало безмолвие. Но уже когда последняя горсть земли была брошена на могилу, вдруг крик прорвался из уст матери Анни. Вскинув руки к небу, она заорала:
– Девочка моя! Деточки мои! Маленькие мои! Вернитесь ко мне! Зачем вы ушли от меня! Как же я буду без вас! О Аллах! Зачем ты позволил убить их? – странное это амикошонство с Аллахом уже насторожило окружающих, как-то выбивалось оно из традиционного мусульманского фатализма и покорности судьбе. А дальше шло нечто и вовсе непонятное. – О Аллах, помоги найти их настоящего убийцу! Покарай его! Может, он здесь, этот негодяй! Может, он среди плачущих мусульман стоит здесь, злорадствует!
О, пусть ненависть моя схватит его за горло!..
При этих словах успевший вернуться и скорбящий вместе со всеми Юсеф Масри почувствовал, как незримые пальцы стискивают его кадык с такой силой, что очередное «верблюжье отродье» застряло в горле. А остальные, слыша крик женщины, начали обмениваться недоуменными взглядами – о чем это она? Ведь ей перед похоронами ясно объяснили, кто убил ее дочь и внуков. Может, отец Анни догадается унять истеричку? Но тот и сам сидел на земле, обхватив голову руками, и тихо выл. К счастью, те из корреспондентов, что не знали арабского, ничего не поняли, а те, что знали, торопливо выключили видеокамеры.
* * *
В номере рава Хаима Фельдмана, где полстены занимала карта Самарии, Натан провел серию прыжков вокруг нее, доказывая преимущества прохода именно по данному ущелью и время от времени подбирая с ковра очки.
– Ой вэй! – вздохнул рав Хаим. – Не кажется ли тебе, Шестьдесят Девятый, что в вади нас легко могут перехватить? По-моему, лучше обойти вот эти скалы справа, а затем по тропкам – их тут до черта – подняться на склон. При этом, в случае засады, мы увидим солдат сверху, даже если луна будет за облаками.
– Да нет же! Да нет же! Да посмотри сюда! Через вади – напрямую, а по склонам... Это в три раза дольше!
Натан выплясывал с карандашом перед картой, а рав Хаим с грустью смотрел на его покрытые старческой рябью руки. Насколько сам он был моложав, настолько его друг за все эти годы постарел.
– Если нам преградят дорогу в ущелье, – невозмутимо сказал рав Хаим, – деваться будет некуда: справа и слева скалы.
– Шестьдесят Восьмой, да откуда они узнают, что мы там идем? – воздел руки к глянцевому гостиничному потолку Натан и подпрыгнул особенно высоко, так что очки отлетели куда-то влево и брякнули о деревянную спинку стула.
– Ой-вэй! – вновь сказал рав Хаим.
Натан прекратил плясать, поднял очки и устало опустился на край тахты.
– Слушай, Хаим, – начал он, словно цитатой из анекдота. – Кружным путем это тридцать километров.