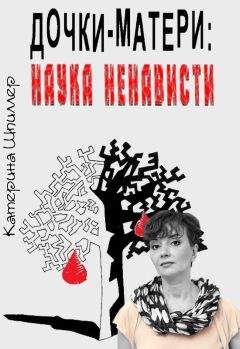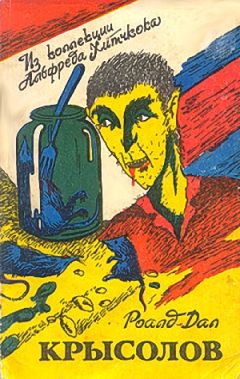Почему же, почему ты, мама, жила год за годом неудовлетворённая, вся в мыслях о «трахе-перепихоне»? Я много думала об этом. Я наблюдала за вами. Поскольку в детях ты, ма, разбираешься хуже, чем свинья в апельсинах, то ты даже не представляешь и не подозреваешь, как ребята могут наблюдать за родителями, что они видят, что подмечают. И об этом никогда нельзя забывать. Умные-то люди об этом знают.
Так вот, мой отец, твой муж… Он даже не груш объелся, он хуже. Вечно неопрятное существо с чем-то подванивающим в себе или на себе. Я ведь помню всё это со своих двенадцати-тринадцати лет, когда это стало так бросаться мне в глаза, а ведь ему не было ещё сорока! Молодой мужчина, в самом соку. С тех лет и по сей день он был и остался таким — десятилетия!
Боже… до меня дошло в полной мере… ТОГДА ему не было даже сорока лет…
…Он обладает «красивой» привычкой почесать задницу или причинное место, а потом с большим интересом тщательно обнюхать пальцы. Ты, как и я, ежедневно лицезрела вечно голые, без носков, кривые, жёлтые ступни с тяжёлыми мозолями и заплетающимися пальцами. Наверно, особенно приятно тебе, как и мне, было наблюдать, мужчину, периодически трогающего их, поглаживающего, почесывающего, а потом задумчиво нюхающего собственные руки.
Может, вы думали, что я не замечала, что я слепая? За столом всегда отец не стеснялся ковырять пальцами в зубах, не считаясь с присутствием людей (даже чужих). Зрелище, ясное дело, не для слабых желудком сотрапезников!
Открой мне тайну, ма, я до сих пор не знаю, как этот человек ухаживал за свой «шевелюрой» состоявшей из тридцати восьми волосинок? Почему его расчёска всегда была липкой и с чёрным налётом? Разве он не имел привычки регулярно мыть голову? Почему не покупал новые расчёски, ведь к старым было противно прикоснуться?
После уборной папа часто не мыл руки — ты замечала это? Я не знаю женщин, которые желали бы прикосновения к своему телу грязных мужских рук.
Отдельная большая тема — ваше бескультурье. Всё это признаки первобытной дикости и деревенской нечистоплотности. Казалось бы — ну и что, совок же, чего требовать? Так ведь вы же именуете себя интеллигентами, культурной элитой, прям таки аристократами духа! В сочетании вот с этим всем кошмаром? Это вас не смущает, не напрягает, не бросается в глаза? Что же это за культура у вас такая особенная? Не включающая в себя ни культуру быта, ни культуру тела… Тошно. Как бывало тошно и противно, ты даже представить себе не можешь! Или можешь? Ты видела, замечала, тебя коробило? Так почему же ты молчала, почему ничего не менялось?
И вот скажи на милость, объясни мне, дуре «бездуховной», мог ли такой муж вызывать у тебя хоть какие-то нормальные женские эмоции? Это в принципе возможно?
Вот почему в твоих книгах последних полутора десятков лет навязчивым образом присутствует такой символ, как «влажные трусики» героини, просто умирающей от сексуального желания. Судя по всему, это выстраданный тобой символ. Ведь не могут же удовлетворить женщину якобы случайные прижимания грудью к чужим мужским плечам, якобы пьяные поцелуи во время совместных застолий и возлияний. Обстоятельства не способствуют — рядом муж, другие гости, а, главное: куда девать этот чёртов возраст?
Я же на свою голову росла и рано стала превращаться в девушку. Чем больше тяжелело моё тело, чем сильнее выделялись груди и наливались все прочие части, тем злее становился взгляд отца. «Такая» дочь его бесила. Интересная «загогулина», да? Да и тебя я почему-то раздражала. Ты, очевидно, судила по себе и подозревала меня в похабных мыслях, во «влажных трусиках», в общем, в диком желании мужчины. Ты, видно, видела подрастающую сучку, конкурентку, которая вполне может найти себе молодого, сильного, и даже хорошо пахнущего самца. Это тебя заедало… Особенно тебя раздражало (это я помню), когда я крутилась у зеркала, что-то придумывала себе из жалких тряпок, самостоятельно училась краситься…
Уже тогда у тебя появились повести, в которых у девочек-подростков «намокали трусики» от вида красивых парней. Девочки изображались весьма неприятными. Меня тошнило от этих описаний, я не понимала тогда, с чего, почему ты так думаешь о нас, девчонках? А это ты, мамуля, думала только обо мне и чуть не рвала бумагу ручкой от ненависти, когда выписывала этих молоденьких, постоянно, с твоей точки зрения, текущих сучек.
Потом история повторилась с внучкой, помнишь, ма? С моей Аришкой любимой… Девочка в тринадцать лет начала бурно расти, слишком бурно. И во взгляде её дедушки, моего отца, обращённом на внучку, возникло то же самое раздражение, что и много лет назад по отношению ко мне. А что ты, ма? У тебя появилась очередная серия юных героинь уже Аришкиного поколения с «мокрыми трусиками» и «взбесившейся плотью».
Знаешь, сколько мне пришлось утирать дочкины слёзки: девочка плакала от комплексов, из-за прыщей и неуклюжей подростковой фигурки. Её мотало то к каким-то готам, то к рокерам, она пыталась искать себя, своё место среди сверстников, что абсолютно нормально для отрочества и юности. Но ты, ма, ничего этого не замечала, не понимала, да тебе было просто начихать! Ты видела только повзрослевшую плоть и, не стесняясь, говорила что-то вроде «Вот выросла девка, одно на уме». А Аришка-то у меня очень хорошая, совершенно нормальная для своего возраста. Кстати, ты ж её давно не видела, спешу сообщить: она стала удивительно, исключительно красивой! Просто загляденье! Такую яркую и очаровательную девушку ещё поискать.
Тебе же ясно стало только одно: ягодка созрела и имеет шанс. А твой, бабкин шанс, совсем протух. Злоба росла. Неудовлетворённость никуда, естественно, не девалась. «Мокрые трусики» в твоих книгах встречаются всё чаще и чаще. И всё грязнее становятся портреты твоих героинь, списанных с меня, моей жизни… В этой повести, ма, ты прям превзошла сама себя. Какая бурная фантазия! Какая отвратительная в своей мерзости главная героиня (это же я у тебя, как обычно)! И сколько смрадной грязи, боже мой, сколько! Не знала, что тебе могут приходить в голову настолько мерзкие вещи, которые ты почему-то приписываешь мне. Твоя придуманная героиня взяла у меня много черт, ох, как много! Да ещё и всякие мелочи, ситуации, эпизоды, с головой выдающие твоё, ма, пламенное желание «искусать» именно меня. Считай, что получилось… Получилось до такой степени, что я могу тебе признаться в одной очень важной, но в то же время страшной вещи: после прочтения я вдруг почувствовала, что… ненавижу тебя. Видишь, насколько тебе всё удалось?
Я знаю, что после этого письма ещё получу от тебя по самую маковку — очевидно, в следующей книге. И вот чему я несказанно рада: мне стало на это наплевать. Видимо, ты переполнила чашу моего терпения, я окончательно поняла, кто ты на самом деле. Поэтому ври дальше. Злобствуй сильней. Мне больше не нужно отмываться от твоей грязи, она ко мне не липнет. У меня осталось лишь любопытство: до какой степени гнусности ты можешь дойти.»
Ничего себе письмишко! Они с Масиком, прочитав его вместе, долго и громко возмущались бессовестностью, бессердечием и злобной глупостью их ужасной дочери. Очень долго возмущались. И очень громко. Ни разу по существу не затронув темы, о которых написала Таська. Потому что говорить было не о чем. Антония знала: Таська написала правду. Ту правду, которую никто не имел права произносить вслух и даже сметь думать. Хорошо, что она свалила из России, хорошо, что её как бы нет ни для кого из здесь оставшихся! Хорошо, что сучка выговаривается исключительно в своих письмишках. Она никогда не посмеет ничего подобного произнести вслух. Побоится. Уж этот запрет, вбитый в девку с самых младых ногтей, дочь не посмеет преступить. Табу, гласящее, что Антония — безупречная мать в глазах всего света, вытравлено, как тавро, прямо на мозжечке Таськи. Так было и так будет. Пусть её тошнит в письмах, пусть она таким образом дарит матери идеи и сюжеты, главное останется неизменным во веки веков.
А ведь иногда она, Антония, думала и чувствовала в точности так же, как Таська. Реагировала абсолютно с теми же эмоциями и чувствами — на определённых людей. Вот была однажды история…
Как-то к Антонии завалилась съёмочная группа заштатного телеканальчика, чтобы взять интервью у писательницы. Руководила группой худощавая нервная дама вокруг тридцати, вся в творческом порыве, горении и придыхании, с неизменной сигареткой на отлёте между тощими пальцами. Даже если сигарета не курилась (в доме Антонии курение было запрещено, Масик не выносил дыма), она всё равно присутствовала в правой руке, порой играя роль дирижёрской палочки. Даму звали Анной. Она режиссировала процесс весьма экспансивно, нервно и драматично. Всё время переживала из-за не очень ладно выставленного света: «Витёк, поправь, невозможно же!» — и так восемь раз кряду, надрывно страдала из-за не очень хорошего микрофона: «Нет, но, люди добрые, можно работать с такой техникой?» Словом, минут через сорок Антония была уже порядком утомлена и раздражена, а до начала интервью было ещё далеко. Писательница стоически терпела и, сцепив зубы, нежно и с пониманием улыбалась Анне.