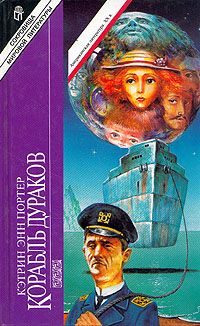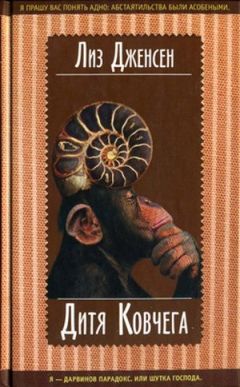Седоки поглядели изумленно, что от них и требовалось, потом Дэвид вполголоса сказал Дженни:
— Не очень-то удачная поездка, правда? — и по-испански обратился к шоферу, который, кажется, уже считал их своей собственностью: — А теперь поедем обратно той же дорогой, только медленно.
— Я отлично понимаю английский, — сказал их гид по-испански. — Ваша поездка пока неудачная, потому что вы еще не все видели. Вдоль всей этой великолепной набережной стоят памятники, исполненные несравненного величия и прекрасных чувств, некоторые из них еще важнее и обошлись еще дороже, чем те, которые вы видели. Вы платите за то, чтобы видеть все, — добродетельно прибавил он, — я вас обманывать не стану.
— По-моему, поездка отличная, — сказала Дженни. — Я именно этого и ждала. Давайте посмотрим все памятники!
Машина прыгнула, точно кенгуру, мимо неразличимыми пятнами замелькали памятники — и вот, обветренные, обожженные солнцем, Дэвид с Дженни сидят под пальмами на красивой, только что вымытой и еще курящейся паром веранде, вдоль стены расставлены просторные клетки с птицами, посреди внутреннего дворика растет банановое дерево. Официант принес бокалы чаю со льда, в чай подбавлено немного рому.
Дэвиду стало спокойно, славно и отрадно — такие минуты порой бывали у него рядом с Дженни: слишком краткие и слишком редкие, чтобы можно было обманываться всерьез и надолго, эти минуты покоя, доверия и понимания все равно были хороши.
— Чем дальше, — сказал он, — тем тверже и непоколебимей я убеждаюсь, какая это огромная ошибка — что-либо делать или воздвигать для обозрения приезжим.
— Давай больше не будем, — подхватила Дженни, еще полная оживления от этой их сумасбродной вылазки. — Давай вести чудесную личную жизнь, которая зарождается у нас внутри, в костях или, может быть, даже в душе и сама пробивается наружу.
Посередине она запнулась и слово «душа» выговорила несмело, на пробу: у Дэвида оно было под запретом наряду с такими, как «Бог», «дух», «духовно», «целомудрие» особенно «целомудрие»! — и «любовь». Обычно Дженни вовсе не склонна была расцвечивать свою речь подобными словами, но изредка в нежданном порыве чувств какое-нибудь из них так и просилось на язык; а Дэвид просто слышать их не мог, и сейчас тоже лицо его стесненно, чуть ли даже не оскорбленно застыло — она уже знала, что так будет, стоит ей что-нибудь такое сказать. Он умел преображать эти слова в непристойность и произносил их пылко, почти эротически наслаждаясь; и Дженни, которая могла богохульничать с безгрешностью хорошо натасканного попугая, в свой черед чувствовала себя оскорбленной тем, что она благонравно именовала «извращенным умом» Дэвида. В этом смысле они давно зашли в тупик.
После гнетущего молчания Дэвид сказал сдержанно:
— Ну, разумеется, это же твой конек — драгоценная личная жизнь, а кончается все картинными галереями, журналами и альбомами репродукций, и то если повезет… сколько еще можно себя обманывать? Слушай, мы ведь живем подачками, верно? От одной случайной работы до другой. Так что, пожалуй, надо повнимательней смотреть на все эти дурацкие памятники — за каждый потом можно получить комиссионные, каждый — случай услужить какому-нибудь скульптору.
— Хороши скульпторы! — вскипела Дженни. — Все это такая бездарная дрянь! Нет, я согласна на любую черную работу, но есть вещи, которые не продашь, даже если бы и хотел, и слава Богу! Писать картины я буду для себя.
— Знаю, знаю, — сказал Дэвид. — Надеюсь, они еще кому-нибудь понравятся — и настолько, чтобы он купил их и взял и повесил у себя дома. Просто во всем, что касается работы, наша теория личной жизни почему-то никуда не годится.
— Ты говоришь не о личной жизни, а об общественной, — возразила Дженни. — Ты говоришь о картине, которая уже на стене, а не у тебя в голове, так? А я хочу, чтобы моя работа нравилась простым добрым людям, которые совсем не разбираются в искусстве, хочу, чтоб они приходили поглядеть на мои картины за много миль, как индейцы приходят смотреть стенные росписи в Мехико.
— Недурная популярность, — сказал Дэвид. — Ах ты, святая простота. Эти простые добрые индейцы хохотали до упаду и несли шикарную похабщину; в Аламеде они намалевали волосы на лобке Полины Бонапарт — изящной мраморной мечты, творения Кановы! Может быть, ты ничего этого не заметила? Где были твои глаза?
— На месте, — беззлобно отозвалась Дженни. — Наверно, я смотрела на что-нибудь другое и слушала о другом, я еще много чего видела и слышала. И я не осуждаю этих индейцев. В конце концов, у них есть кое-что получше.
— Лучше Кановы? Допустим. А может быть, скажешь лучше Джотто? Или Леонардо? Нет, это не лучше очень многого, даже того, что они сами когда-то создали. Их искусство выродилось ко всем чертям… то, что было у них по-настоящему хорошего, находят теперь при раскопках. Да, мне это нравится, и, понятно, сами они это предпочитают чужому. Но послушай, Дженни, ангел, нам-то что это дает? У нас своя дорога; не будем подражать примитивам, этим мы и самих себя не проведем…
— Дэвид, если я не вычерчиваю истово каждую линию, это еще не значит, что я подражаю примитивам… Нет, не повторяй больше! Я люблю индейцев, это моя слабость. И я уверена, чему-то я у них научилась, хотя сама еще не знаю чему.
— Но они-то тебя никогда не любили, — сказал Дэвид. — И ты это знаешь. Мы упорно стараемся любить их по отдельности, поодиночке, как и друг друга, а они ненавидят нас всех гуртом, просто потому, что у нас кожа другого цвета и мы — раса поработителей. Мне все это осточертело. И ничего им от нас не нужно, вот только в прошлом году понадобился твой старый, разбитый «фордишка», да моя зажигалка, да патефон. Нам нравятся их красиво сплетенные циновки, потому что мы не должны на них спать, а им нужны наши пружинные матрасы. Их не за что осуждать, но от сентиментальной болтовни о них меня тошнит.
Дженни была огорчена, озадачена — и как раз поэтому рассмеялась.
— Я ведь не ищу какой-то новой веры, — сказала она. — Должно быть, ты прав, но есть же что-то еще… Я знаю, для хорошего примитива мне не хватает сложности.
— А я не думаю, что они сложнее нас, — сказал Дэвид. — Но сложности у них другие, только и всего.
— Это далеко не все! — сказала Дженни. — Вот это уж слишком упрощенно.
Дэвид уловил звенящую нотку в ее голосе и промолчал, а про себя подумал: о чем бы ни зашла у них речь и как бы ни старался он растолковать Дженни свою точку зрения, всегда его словно заносит куда-то вбок, или он топчется по кругу, или увязает в какой-то трясине, куда и не думал забираться… как будто ум Дженни так устроен, что не вбирает, а отражает, отталкивает его мысли и даже чувства… к примеру, в отношении тех же индейцев. Впредь он не станет с ней говорить об индейцах, о ее картинах тоже: первая тема пробуждает в ней чувствительность, вторая — упрямство; ну и не будем об этом.
Молча, но мирно они выпили по второму стакану ледяного чая с ромом, спохватились, что не знают, который час (пришлось спросить официанта; они усложняли себе жизнь тем, что из принципа не носили часов), и побрели обратно в порт.
Жара была невыносимая, все живое на улицах еле двигалось в каком-то сонном оцепенении, солнечные лучи едва не сбивали с ног, люди обливались потом, у собак с высунутых языков бежала слюна; к тому времени, как Дженни с Дэвидом добрались до своего причала, они совсем задохнулись и взмокли в прохладных с виду полотняных костюмах. У входа в длиннейшее подобие сарая, через которое надо было проходить к кораблю, они увидали густую толпу нечесаных темноволосых оборванцев. Между ними было шагу негде ступить: в руках у них, за плечами, под ногами на земле — всюду торчали их пожитки — узлы и тюки в грубой мешковине, перевязанной веревками. Теснились вплотную мужчины и женщины всех возрастов и самого жалкого вида, с большими и малыми детьми, с грудными младенцами на руках. Все — невероятно оборванные и грязные, сгорбленные, молчаливые, несчастные. Несколько человек, заметив двоих чужестранцев, начали без слов подталкивать друг друга и вещи, и наконец между ними очистился узкий просвет.
— Проходите, пожалуйста, — бормотали они по-испански.
— Спасибо, спасибо, — повторяли Дженни и Дэвид, осторожно пробираясь в этой тесноте.
Постепенно толпа редела, но огромный сарай был еще набит битком. Люди сидели, скорчившись, на полу, стояли, бессильно сутулясь, устало подпирали стены.
И нечем было дышать — все заполнял уже не воздух, но жаркие, липкие испарения, пахло потом, грязью, несвежей пищей, отбросами, прелым тряпьем, испражнениями — смердело нищетой. А толпа не казалась безликой: все это были испанцы, у всех головы отличной лепки, выразительные, тонкие черты, глубокий, осмысленный взгляд. Но кожа землистая, как у людей, истощенных вечным недоеданием и непосильной работой, в нездоровой бледности этой медно-смуглой кожи еще и какая-то празелень, словно под нею течет кровь, которая не обновлялась много поколений. Босые загрубелые ноги — в ссадинах, ступни растрескались, суставы торчат шишками, натруженные руки точно клешни. Сразу видно, эти люди пришли сюда не по своей воле и охоте — и в бессильном унижении, как бессловесные рабы, ждут: что же с ними станут делать. Матери кормили грудью тощеньких младенцев; мужчины, сидя на земле, рылись в своих жалких пожитках или пытались увязать их покрепче, осматривали стертые ноги, скребли нечесаные головы или просто застыли в неловком праздном оцепенении, глядя в одну точку. Бледные, испуганные, несчастные дети сидели подле матерей и тревожно заглядывали им в лица, но не жаловались и ничего не просили.