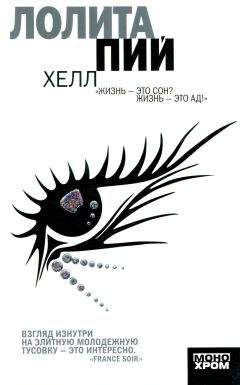Из «Вэнити» мне перезвонили сами. Однажды, ранней весной, я была в Портофино, или в Порто-Черво, или в Марбелье, а быть может, в Сен-Тропе. Просто я помню, что было шесть часов вечера, в окне море, шум волн, оранжевое солнце устремляется к горизонту, помню нежное прикосновение пеньюара к моей просоленной коже, вкус «беллини». С Дереком мы были вместе всего десять дней, я не решалась даже подписать счет в отеле. Мой старенький телефон зазвонил. Мы оба подскочили, мне звонили в первый раз за десять дней. Дерек отложил книжку, эссе какого-то американца о мотиве предательства у Скорсезе, и посмотрел на меня странно — как будто с сожалением.
— Алло?
— Вы Манон?
— Да!
— Здравствуйте, это говорят из агентства «Вэнити».
— …
— Я не помешала?
— Нет…
— Гм… Не могли бы вы в ближайший понедельник приехать на пробы?
— Кто вам поручил мне позвонить? Жорж?
— Нет, мадемуазель, Жорж у нас больше не работает. У агентства теперь другой владелец.
— Правда? И давно?
Смущенное покашливание.
— Со вчерашнего дня.
— А как вы узнали мой телефон?
— Я же говорю, нам вас рекомендовали.
— Но кто?
— В понедельник, в одиннадцать, в агентстве?
— Кто вам меня рекомендовал? Не понимаю, кто мог вам меня рекомендовать?
— В понедельник, в одиннадцать?
— Да. Да, в понедельник, в одиннадцать. Но ответьте. Кто вам сказал… кто вам меня рекомендовал?
— Конечно… человек, который желает вам добра.
И повесила трубку. Я обернулась к Дереку, он уставился на мой телефон, который я уронила на пол.
— Дерек? У меня в понедельник пробы, в «Вэнити».
— Честное слово, надо… надо мне купить тебе новый мобильник.
— Звонила какая-то странная девица.
— Потому что этот — что-то невозможное.
— Я его подобрала под банкеткой, в ресторане.
— Кто бы сомневался, цыпочка.
— Думаешь, я стану моделью?
Дерек не отвечает, отводит глаза. Молчит до тех пор, пока молчание не становится настолько тягостным, что ему ничего не остается, как его прервать.
— Сколько гостиничных счетов можно будет подписать, — произнес он, сопровождая свои слова жестом.
— Тебе плевать?
— Мартин Скорсезе смотрел больше двадцати тысяч фильмов, представляешь?
Я замолчала.
В следующий понедельник я отправилась в «Вэнити», прошла пробы, и все обращались со мной почтительно и даже как будто с опаской. Потом все покатилось очень быстро, я еще композитку не получила, а уже снялась в ролике и в двух рекламных кампаниях. Мы только и делали, что путешествовали, по работе Дерека или в отпуск Дерека, Дереку без конца требовался отпуск, и куда бы я ни приезжала, там всякий раз находился кто-то, кто хотел бы со мной работать. За несколько недель мой график оказался расписан на год вперед, а все города мира покрылись моими портретами в три четверти. Я стала изрядно выпивать, чтобы выдержать этот ритм. Меня узнавали на улице. Сначала это меня трогало. Потом начало утомлять. Сейчас я от этого просто заболеваю. А Дереку все равно. Ему вообще все все равно. Однако он очень заботился обо мне. Давал мои контракты на визу своим адвокатам, а потом у меня появились свои адвокаты. Давал мне советы, пока я не научилась обходиться без его советов. Советы он давал примерно такие: «В конце концов ты сыграешь в ящик, как все, но никогда не забывай, что на тебя смотрят». Не знаю почему, но он запрещал мне общаться с другими моделями. Он питал какое-то странное отвращение к моделям, и я спрашивала, какого черта он тогда делает со мной. Он не отвечал. Мне нельзя было даже разговаривать с другими девушками. И с моделями-мужчинами тоже. Он ездил со мной на съемки каждый раз, когда позволяло время, стоял под дверью в своем вечном черном плаще, с поднятым воротником — из-за вентиляторов, — руки в карманах, и ему явно до смерти хотелось сбежать. И все-таки он стоял, в своей дурацкой кепочке, натянутой на уши. В то время он беспрерывно слушал The Gathering и мог говорить о них часами, «ах, какое чередование то мучительной, то возвышенной печали». Просто больной. Я говорила ему, что постоянно ходить с плеером в ушах антиобщественно. Он отвечал, что это позволяет ему не слышать адского количества глупостей, что он предпочитает иметь дело с реальностью преображенной и в любом случае умеет читать по губам, «цыпочка». Я намекала, чтобы он себе его куда-нибудь вживил, будет не так явно. Он отвечал, что ему уже приходила такая мысль, но, к счастью, есть еще вещи, которые он не может купить. Я спросила, неужели это так дорого. Он усмехнулся: нет, цыпочка, просто такое не делают. А потом пробормотал что-то касательно своей самоубийцы. Жюли, с которой он провел такие потрясающие минуты, они сидели рядом, оба в наушниках, обмениваясь музыкальными поцелуями. Кажется, именно тогда я начала его ненавидеть. В последний раз, когда мы были в Нью-Йорке, я прогнала его из своей постели, но его это не слишком взволновало. Я все спрашивала себя, на кой черт я ему нужна, я с ума сходила. И еще я спрашивала себя, почему, дьявол его побери, почему, если я нужна ему как дырка в голове, он не может хоть на минуту оставить меня одну. Он ездил со мной на все деловые встречи, на все съемки, я требовала, чтобы его выставили вон, но никто не хотел выставлять его вон. Он ездил со мной по магазинам, а когда ему действительно надоедало, или когда надо было идти работать боссом — Дерек, боссом! — или когда он уезжал кататься верхом на свой конный завод в Нормандии, он подсылал Мирко или шофера, и этот кретин Мирко с утра до вечера ходил за мной хвостом, и включал в своей тачке русские песни, и орал «Калинкакалинка-калинкамая», и хлопал в ладоши, и убавлял звук разве что затем, чтобы доставать меня историями о первых «боях без правил», когда он был молодой и сильный, и еще не было запрещенных приемов, и можно было бить даже по яйцам и в спину, и о том, как однажды он сожрал ухо у борца сумо, откусил, прожевал, проглотил, переварил, стоит ли удивляться, что от этого каннибала в роли телохранителя у меня ехала крыша.
А потом, в один прекрасный день, моя букерша вдруг сбежала. Мы сидели у нее в офисе, она рассказывала про новый фильм Каренина, экранизацию пьесы Чехова — я понятия не имела, кто такой этот Чехов, — в главной мужской роли он видел Эдриана Броуди, в общем, высокоинтеллектуальный проект, что-то вроде «театра в театре», и режиссер думал обо мне с тех пор, как появилась эта реклама имбирной кока-колы — первый порноролик, его так и не пустили в прокат, — тридцать секунд знойного секса с Вернером при лунном свете, на земле, а кругом непролазная глушь, русская тундра, и гениальный слоган: «Имбирная кола: чего вы жаждете?» Скандал. Соблазн. Каренин любит скандалы. В общем, так говорила букерша, и поскольку он любит скандалы, соблазны и тех, через кого они приходят, он писал сценарий по пьесе с моей фотографией на рабочем столе компьютера, и тут у меня навернулись слезы, потому что хоть я и стала девкой, настоящей девкой, испорченной и одержимой звездной болезнью, кино было моей главной мечтой, действительно единственной моей мечтой, и вот она скоро осуществится, и я по-настоящему расплакалась от счастья, и она расплакалась тоже, и сказала, что больше не может, что это уж слишком, это выше ее сил, и выскочила из офиса. Я была в недоумении, и Дерек тоже. Я сказала, что не понимаю, что на нее нашло. Дерек ответил, что она, наверно, сама тоже хочет сниматься в кино, но, на ее беду, эта сфера более или менее закрыта для толстух, а может, она беременна. Назавтра она уволилась, я получила роль, и мною занималась уже другая букерша. По голосу я узнала ту девицу, что звонила мне полгода назад и приглашала в «Вэнити» на пробы. Но я, видимо, обозналась, потому что, по ее словам, это была не она. Да и вообще я не понимала кучу вещей, иногда мне казалось, что я сошла с ума или у меня шизофрения, и Дерек отправил меня к своему психиатру, а тот прописал мне антидепрессанты и снотворное, настоятельно посоветовав не мешать их с алкоголем или кокаином. А потом были съемки фильма «Чайка». Мою героиню звали Нина, и она хотела стать актрисой. Съемки шли в одних и тех же декорациях, на одной площадке, где-то в недрах студий «Чинечитта». Гениальный декоратор по имени Чарли — о нем все говорили, но никто никогда не видел — воссоздал русскую усадьбу конца XIX века. Когда Дерек в первый раз увидел декорации, он прослезился. Продюсировал фильм он сам. Съемочная группа была небольшая, и по-французски не говорил никто, кроме Дерека и Эдриана Броуди, а с ним Каренин запретил мне общаться во время перерывов, чтобы не выходить из роли. В принципе, разговаривать нам было особо не о чем. Каренин был законченный псих. Из тех вечно терзающихся звездных режиссеров, что смотрят на актера как на вещь и моделируют ему душу и тело кувалдой. Я полтора месяца не мыла голову. Носила дырявые туфли. «Чехов был бы доволен», — постоянно твердил Каренин. Эдриана он называл не иначе как Константин, и вся группа тоже называла его Константин, по имени персонажа. Но меня называли Манон, и мне хотелось верить, что это привилегия.