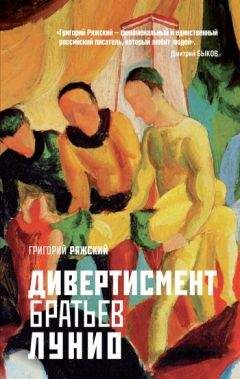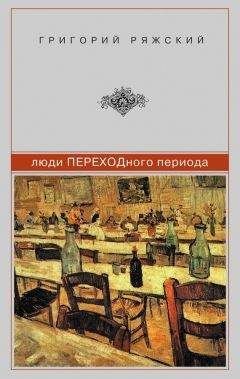То, что она дала ему, было куском потёртой толстой кожи коричневого цвета. Где взять всё остальное и что означает «быть изящным», он не знал, но решил больше не привлекать Дюку к художественному творчеству и всё остальное сделать самому. Так, чтобы все они удивились его острому глазу и чувству баяна, как сказал про него Григорий Наумыч.
Сапожную иглу он приобрёл на том же рынке, где обычно брал всё и запивал потом пивом. Из собственных карманных денег, что выделял ему тесть. Добавочно к этому взял ещё шило, чтобы легче было протыкать, и портновские ножницы, самые крупные, какими, наверное, режут для пальто. Такая личная догадка и легла для Ивана Гандрабуры в основу его собственной творческой биографии, чьё начало было положено семейным расчётом Григория Лунио.
Последующие дней пять ушли на рукотворное создание произведения в виде художественной упаковки, соответствующей всеми параметрами поручению его нерасписанной жены. Работу свою, пока не доделает окончательно, Иван решил не светить. Основное время труда занимало не само задание, а его многократная переделка и перешивка. Так длилось до той поры, пока не вышел весь кожаный кусок, а выход готового продукта всё ещё не намечался. Тогда он пошёл к Дюке и без объяснения причин получил новый кусок, такой же.
К шестому трудовому и творческому дню приобретённый опыт дал первые плоды. Выкроенный на основе всех загубленных, последний вариант кожаного мешочка сложился вдруг в абсолютно законченную форму. Внезапно, каким-то новым своим рассудком это понял сам автор. То, что лежало перед ним, размером с пол-очешника, красиво потёртое временем, с ровно обрезанным, выпущенным наружу краем, пройденным снизу доверху аккуратными стежками толстой двойной фиолетовой нити, представляло собой законченную упаковку для любой красоты, какая смогла бы уместить себя изнутри. Хотелось взять упаковку в руки и повертеть, потереть пальцем по самой шкурке мешка и, растопырив пальцами вход, заглянуть вовнутрь. Что он и сделал. Оставалось только заложить туда изделие, получить обильную похвалу и зачать этим фактом эпоху новой для себя жизни.
Он пошёл к Дюке и положил рукоделие на рабочий стол, перед ней. Сам стоял и молчал, пока она, оторванная от работы, изучала глазами то, что принёс муж. Потом бережно взяла в руки и проделала с упаковкой те же манипуляции, какие проделал и сам он, упрочнив тем самым его смутные подозрения, что красота, если достигнута, пробуждает в людях схожие инстинкты.
– Вань... ты просто гений... – медленно выговорила Дюка, продолжая осматривать работу со всех сторон. – Только, боюсь, ты сам не понимаешь, как здорово у тебя это получилось. Ну что мне тебе сказать? Я счастлива, мой дорогой. Я и думать не смела, что у тебя такие руки. Такие умелые и золотые. – Она взяла со стола незаконченное кольцо с крупным кораллом, оправленным в серебро, обойдённым по низу мелкими бирюзинками, и опустила его в мешочек. Взвесила на руке. Потом достала обратно. И положила снова. – А теперь смотри, дорогой мой. – Она взяла скальпель, прижала кожу к поверхности стола и нанесла последовательно восемь параллельных прорезов под верхним краем мешочка. Иван дёрнулся было, но она остановила его движением своей маленькой руки. Затем, прижав линейкой, отсекла от остатка кожаного листа длинную полоску, получившуюся в сечении квадратной. И вышел угловатый шнур. Она продела его сквозь сделанные прорези, один через один. И до Ивана вдруг дошло, что вот так вот просто, без единой пробы и всяких других приготовительных шагов, жена его, Дюка, одним движением своей маленькой ручки и маленькой своей мысли улучшила его пятидневный труд, изготовив у него на глазах шикарную затяжку для упаковочного мешочка. – А вот здесь и здесь будет по небольшому круглому коралловому шарику, можешь попробовать закрепить их сам. Подсказать как? По самым краям затяжки.
– Не надо! – быстро отреагировал Иван, уже начавший соображать, каким образом приладить эти оранжевые камушки к кожаным завязкам и на что сажать. – Сам придумаю, не дурак, наверное!
Вечером, ближе ко времени, когда уже спать, он вёл себя не по обыкновению беспокойно. Спешил доужинать, досмотреть передачу и улечься раньше обычного. Потом уже, наутро, Дюка поняла – хотел поделиться с ней своим зачаточным счастьем через любовь в их неохватного размера кровати. Так и было. А ещё он увидал в тот день, какая она, его маленькая женщина, его незаконная жена Дюка, которая маленькими ладошками своими, маленькими острыми глазками и маленькой умной головой умеет так здорово делать и соображать мужскую работу, как сам он в жизни не умел. И какая она к тому же разумная и рассудительная, после того что сделала с его трудом и какие слова про него сказала.
Эта ночь, которую они провели почти без сна, любя друг друга, как прежде, но только лучше, иначе, с каким-то незнакомым, новым для них обоих чувством, стала для Ивана в некотором смысле переломной. Он вдруг перестал чувствовать себя великаном против Дюки, каким ощущал себя раньше, а её против себя не чувствовал больше карлицей. В эту ночь они были просто женщина и мужчина, почти равновеликие по жизни и в любви.
А на третий день, после обеда, пришёл покупатель и забрал законченное Дюкой кольцо с кораллом, унеся его в родной кожаной упаковке с затяжным шнурком, по концам которого Иван приторочил по одному маленькому круглому коральчику.
Гирш, несмотря на природное чутьё и наблюдательность, не сразу сообразил, что в их доме что-то переменилось. Не надломилось и не пошло туда, куда не надо, чего он в любую минуту мог ожидать, живя под одной крышей с неагрессивным дурачиной, а именно изменилось. Понял это, заметив, как светится Дюка, и поймал себя на мысли, что зять его отчего-то, находясь в квартире в то же самое время, что и он, стал заметно реже попадаться ему на глаза. Когда же обнаруживался, то не выглядел привычно вялым, как прежде, неся на лице выражение неопределённости и скуки.
Гирш зашёл к дочке и спросил, чего, мол, с ним такое. Втянулся, что ли?
Выяснилось – ещё как. В это время Иван трудился над третьим по счёту произведением сердца и ума. Сами руки, как он понял потом, были не главным. Руки были частью самого ремесла, то есть делом наживным. Главным было мозговать. Становиться каждый раз изобретателем новой упаковочной красоты, но только аккуратно, смотря что надо паковать и как. Если украшение было из дерева и кожи, то Гандрабура думал про мягкий вариант, облегчённый, похожей фактуры – одно ложится в другое, соединяясь в родственное. Зато серьёзное изделие, по типу, где много металлических частей и камни, по центру и в обвес – такое просилось в коробку. В коробочку, типа шкатулки с укладкой в гнездо. Тоже разное, в зависимости от размера и формы. Если же металл шёл без камня, сам по себе, как подаренная ему женой «поленница», но понавороченней, с изгибами, крутёжкой и вздутиями, какие она беспрестанно выдумывала, тогда под него хотелось сделать упаковку тоже «с разговорами», не строгую, как любила Дюка, а наоборот, раздутую, с фантазией. Они об этом иногда спорили, и каждый оставался при своём, но поскольку товар был хотя и семейный, но не его, то мысли приходилось усмирять, идею упрощать, а замысел подрезать.
Но такие дела пошли не сразу, а уже очень и очень потом, когда отец окончательно уверовал в свои упаковочные таланты и мог позволить себе иногда не соглашаться с мамой.
Пока же третьей по счёту упаковкой стал мешочек из бархата, но не с кожаным шнурком для затяжки, а с готовым, круглым, красного колера, купленным Иваном в галантерее. В него ещё вплетена была тонкая-претонкая серебристая нитка, завитая по кругу шнурка, и это привело Ивана в сумасшедший восторг. Раньше он таких шнурков видал-перевидал, но никогда никакая внутренняя сила не запускала в его голову сигнал, что шнурок такой и есть сама красота. И ещё много такой красоты вокруг, вообще, по жизни. Надо только вглядываться в разные предметы и вещи и сразу прикидывать, какой своей интересной особостью они могут участвовать наряду с другими в деле создания стоящей упаковки.
Красный шнурок с серым бархатом выглядел ужасно привлекательно. Дюка работу его приняла, конечно, но сказала, что таким или почти таким же способом упаковывают, бывает, готовую ювелирку, государственную, магазинную. Чаще не нашего производства. И что хорошо бы уйти от стереотипического – так и сказала, а Иван долго потом слово это использовал, всем сердцем полюбив и приняв его душой – восприятия самой вещи, любого предмета, который придуман для служения прекрасному. И вслед за тем объяснила ещё вдобавок к сказанному, что есть на свете мир зла и есть мир добра, которые меж собой пребывают в вечном антагонизме. И если вещь, любая, даже не обязательно ювелирная, у создавшего её мастера получилась, по-настоящему, включая упаковку, то она просто не может не быть красивой. А это означает, что красотой своей эта вещь работает против силы зла. И укрепляет мир добра. Тоже вместе с упаковкой, само собой. Как-то так примерно.