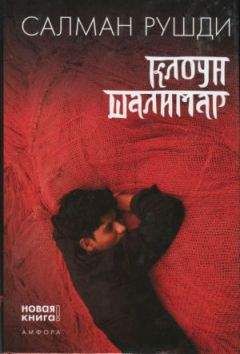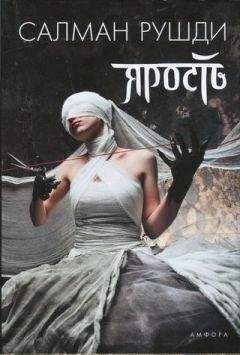— А это, знаешь ли, очень сложно — любить человека, который не замечает никого, кроме самого себя, — задумчиво произнесла она, — и это лишний раз показывает, какой он благородный, твой Абдулла. Теперь, после того как они раздружились, толстяк-ваза остался совсем один в целом свете.
Имя вазы, означавшее «пчела на нарциссе», вполне соответствовало его характеру: он жалил кого вздумается и был чудовищно тщеславен. Он управлял ширмальским ульем, потому что слыл непревзойденным мастером своего дела. Однако собственная поварская команда его терпеть не могла, а причиной тому была его склонность к муштре подчиненных и надоевшее всем жужжание про необходимость начищать котлы до такого блеска, чтоб он мог видеть в них, как в зеркале, свое отражение. Пока ширмальцы сохраняли свое звание лучших кулинаров Долины и в чудовищных количествах поставляли кушанья во время праздничных церемоний, люди мирились и с его укусами, и с его самолюбованием. Но вот доходы стали падать, а вместе с ними стала заметно слабеть и его власть, в то же время — как вскоре станет ясно — влияние нового муллы Булбула Факха, напротив, стало заметно расти. Всю вину за это и за многое другое Ямбарзал возложил на Абдуллу.
Отчасти из восхищения кулинарным искусством Бомбура Ямбарзала, отчасти из уважения к его статусу деревенского старосты Абдулла делал все возможное, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения. По его инициативе они вдвоем время от времени отправлялись ловить форель в горных ручьях; случалось, проводили вечера за кружкой черного рома или уходили на несколько дней в горы. За личиной расплывшегося, хвастливого индюка Абдулла сумел разглядеть другого Ямбарзала — одинокого человека, единственной страстью которого была его кулинария. Он относился к своей профессии со священным трепетом, ожидая того же от своих соратников, и испытывал страшное разочарование, когда замечал, с какой преступной легкостью его помощники отвлекались от служения божественному гастрономическому искусству ради семьи, ради любви или просто из-за утомления.
— Если бы ты не был настолько суров к самому себе, — сказал ему однажды Абдулла, — то, возможно, стал бы мягче относиться к другим и тебе веселее жилось бы.
Бомбур тотчас ощетинился.
— Я не плясун и не шут, — резко бросил он. — Я занимаюсь устройством пиров, а не забавляюсь играми.
Эти слова показали, что у них с муллой Факхом была общая, очень опасная черта — фанатизм. А безумные идеи Булбула Факха вскоре превратили жизнь обеих деревень в настоящий кошмар.
После горшечной войны всякие контакты между Бомбуром и Абдуллой были прекращены. Так продолжалось до тех пор, пока не прибыли посланцы от махараджи Дарги с требованием замириться, ибо близился праздник Дассера[6] и им предстояло объединить усилия и вместе с персоналом дворцовых кухонь приготовить достойное угощение (и развлечение) для торжественного пиршества в садах Шалимар. Празднество планировалось устроить с невиданным размахом, таким, какого не помнили со времен Джахангира[7].
Подобно тому как набираются блох от запаршивевшей собаки, к Фирдоус перешли некоторые приемы Назребаддаур. Одолеваемая провидческим зудом, Фирдоус тотчас же по этому случаю заявила, что грядут серьезные перемены к худшему и махарадже про это известно.
— Он устраивает одно увеселение за другим, как будто завтра наступит конец света, — изрекла она. — Дай-то Всевышний, чтобы это касалось только его самого, а не нас с вами.
Девять ночей подряд Пьярелал Каул неутомимо воспевал богиню Дургу и на десятый день проснулся, весь сияющий.
— С чего это ты такой довольный? — проворчала Пампуш.
Из-за беременности она в тот день чувствовала себя совсем плохо, поэтому настроение у нее было хуже некуда. К тому же ее извели песнопения. Супруг-пандит славил Всевышнего, не закрывая рта, вот уже девять дней, причем пел не только во время служб в маленьком деревенском храме, но и дома, отчего она не могла заснуть.
— Сколько бы ты ни голосил про эту любовь к богине, — в сердцах заметила Пампуш, — единственная женщина в твоей жизни — вот этот раздутый шар, то есть я.
Но на восторженное состояние Наставника ничто, даже дурное расположение духа его половины, повлиять не могло.
— Нет, ты только представь! — воскликнул он. — Сегодня мусульмане нашей деревни с соизволения махараджи-индуиста будут готовить пир в садах Великих Моголов, иначе говоря мусульман, в честь того дня, когда всемогущий Рама предпринял поход против демона Раваны ради освобождения своей драгоценной супруги Ситы. Более того — на праздновании будут разыграны два представления: одно — наше, традиционное — «Рам-лила», а другое — легенда о мусульманс ком султане — «Бадшах». Индусы, мусульмане — какая нам разница? У нас в Кашмире оба представления обозначены двумя колонками на одной и той же афише; мы едим из одной посуды, мы смеемся над одними и теми же шутками. Мы будем с превеликим удовольствием следить за победами славного Зайн-ул-Абеддина, а наши братья и сестры мусульмане с таким же увлечением станут смотреть, как Рама выручит свою Ситу, — они все любят Ситу и хотят, чтобы ее спасли. У нас нет споров, нет проблем! А еще — фейерверки! В Шалимаре установят огромные фигуры — среди них будут и Равана, и его брат Кумбхакарна, и его сын Мегхнад. Представь — мусульманин Абдулла Номан будет исполнять роль самого бога Рамы! Он пустит стрелу в Равану — и сразу за этим на фоне фейерверка запылают все чучела сторонников Раваны!
— Это, конечно, замечательно, — уныло покачала головой Пампуш, — только я-то все это вряд ли увижу; меня наверняка будет выворачивать наизнанку за ближайшим кустом.
На противоположном конце Пачхигама проснувшаяся на рассвете Фирдоус обнаружила, что ее желтые волосы потемнели. Ребенок должен был вот-вот родиться, и ей казалось, будто в вены ее влили какую-то постороннюю жидкость. Одолеваемая мрачными предчувствиями, она решила, что тень, упавшая на ее волосы, есть дурной знак. Абдулла привык доверять инстинктам жены и потому даже спросил ее, не стоит ли поварам и актерам послать к черту заказ махараджи и остаться дома, но она покачала головой.
— Назребаддаур была права — затевается что-то поганое, — прошептала она, похлопывая себя по невероятных размеров животу, — но сейчас меня больше пугает тот, кто еще внутри, но скоро появится.
Это был первый и последний раз, когда она высказала вслух то, что тщательно скрывала от всех и чему не находила никаких рациональных объяснений: еще до появления на свет мальчика, который с первого дня стал общим любимцем, мальчика светлого, доброго и самого искреннего из рожденных в Пачхигаме, она стала бояться его до смерти.
— Не тревожься ты так, — начал успокаивать ее Абдулла, неверно истолковав ее слова. — Мы будем отсутствовать всего одну ночь. Парни будут рядом. (Говоря про парней, он имел в виду пятилетних двойняшек Хамида и Махмуда, а также Аниса, двух с половиной лет от роду.) Да и Пампуш побудет с тобой до нашего возвращения, — добавил он.
— Если ты полагаешь, что мы с Гири Каул собираемся сидеть дома и пропустить такой праздник, то, значит, мужчины еще глупее, чем я о них думала, — сказала Фирдоус уже своим обычным, не допускающим возражений тоном. — И еще: коли дитя решит родиться сегодня в ночь, то уж лучше мне в это время быть вместе с женщинами, а не оставаться одной в опустевшей деревне наедине с привидениями. Или ты так не считаешь? И кроме всего прочего, кому как не мне, прямой наследнице великого Искандера по женской линии, надлежит открыть торжество в садах Моголов?
Абдулла Номан знал, что упоминание в качестве довода имени Искандера Великого делало дальнейшую дискуссию бессмысленной.
— Хорошо, — сказал он, пожимая плечами, — если вы, курицы неповоротливые, хотите снести детей, словно яйца, под кустом в тот самый момент, когда господа будут лакомиться жареными цыплятами, — дело ваше.
«Александрийские фантазии» Фирдоус, которая настаивала, будто светлые волосы и голубые глаза достались ей от македонца, служили причиной самых бурных ссор между нею и супругом, который считал правление завоевателей-чужеземцев бедствием ничуть не меньшим, чем эпидемия малярии. С другой стороны, не усматривая в этом никакого противоречия, он с превеликим наслаждением исполнял роли иноземцев, правивших в Кашмире как в период, предшествовавший установлению власти Моголов, так и в более поздние времена.
— Правитель на сцене — это всего лишь метафора, это идея величия, обретшая плоть, — говорил он, поправляя войлочную шапочку, которую носил постоянно, словно корону, — в то время как правитель во дворце — это либо пропойца, либо докука, а когда он на боевом коне (при этом Фирдоус, как он и ожидал, сразу разъярилась), то для простых мирных людей он во все времена символ большой беды.