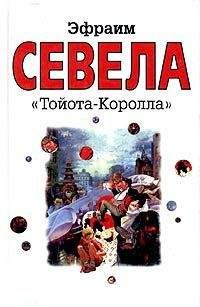На этом имени я его перебила, сказав, что бывший вице-президент Америки — жулик, как и его бывший босс — президент Ричард Никсон.
— Ричард Никсон тоже до недавнего времени обитал рядом, в Сан Клементе, — добавил дядя Сэм.
— Не знаю, пристойно ли гордиться соседством с жуликами? — укорила я его.
— С чего ты взяла, что я горжусь? — мягко улыбнулся он мне. — Я тебе перечисляю моих соседей. Только и всего. А горжусь ли я этим? Возможно, они похваляются в своем кругу соседством со мной. Кто знает? А насчет жуликов… То кто теперь не жулик? Ты мне можешь указать? Каждый, кто сколотил себе приличное состояние, если не впрямую, то косвенно непременно кого-нибудь обделил, а то и обобрал. Пожалуй, Хозе, мой садовник-мексиканец, не жулик… У него ничего нет. Даже легальных документов. Но и он норовит что-нибудь украсть. По мелочам. Кто на это обращает внимание? Это норма.
— Я не жулик, — запальчиво сказала я.
— Верно, — согласился он и прикрыл набрякшими веками глаза, как бы давая мне понять, что устал от бессмысленного спора со мной, и так как уши заткнуть не может, то хоть насладится тем, что не видит меня. — Верю. Хотя бы уж потому что не смогла скопить денег на автомобиль. А что в этом хорошего? Честно гонять пешком, отбивая пятки?
— Уж, по крайней мере, пристойней, нежели ехать, развалившись на мягком сиденье нечестным путем добытого автомобиля.
— Ты имеешь в виду нас с тобой?
— О присутствующих не говорят.
— Кого же ты имеешь в виду?
— Нельзя считать нормальным общество, где один получает ни за что, за улыбку фальшивыми зубами с экрана, миллион, а другой работает, не разгибаясь, и ходит без зубов, потому что не может уплатить дантисту. Вся эта голливудская шантрапа, крашеные шлюхи, которым место в захудалом борделе, уж не знают, на что потратить сыплющиеся на них миллионы. Строят дома, как дворцы. Меняют автомобили чаще, чем трусики… А молодая девушка из колледжа, не дура и трудолюбивая, должна делить дешевую квартиру с подругой и вывихнуть себе мозги в поисках денег на самый захудалый автомобиль, без которого в этом городе не ступить ни шагу.
— В каком городе?
— В том же Лос-Анджелесе.
— Понимаю. Понимаю. А какой автомобиль ищет девица, описанная тобой?
— Какой? Обыкновенный. Не «Роллс-Ройс». Нормальную машину, не изношенную. Чтоб не ломалась на каждом шагу… И не причиняла лишних хлопот, которых и без нее достаточно.
— Ну и темперамент! — похвалил он меня. — Не завидую твоему будущему мужу. А впрочем, ему, негоднику, вполне можно позавидовать. А то ведь погляжу на нынешнюю молодежь, ни рыба ни мясо. Ты же бунтарь по натуре. Что я, не вижу? Мечтаешь переделать Америку. Прежние поколения тоже мечтали. А она стоит, как стояла. И все богатеет. А возможно, и беднеет. Я, честно признаюсь, не слежу, потерял интерес. Ты же молодая, тебе до всего дело. Красивой женщине многое прощается. Даже политический радикализм.
Меня раздражало, что он явно посмеивался над моей горячностью, дурачился, как с малым ребенком, и не принимал меня всерьез. Но я сдерживала себя. И потому, что он старше. И еще по одной причине. Я не корыстна. Легко отдаю свое. И не зарюсь на чужое. Но дядя Сэм — другое дело. Я пребывала в очень стесненном положении. И он, только он, мог меня выручить. И сделать это легко, походя. Не унизив при этом. Я была Золушкой, едущей на бал в королевский дворец. И в глубине души надеялась вернуться оттуда если не принцессой, то уж, по крайней мере, сбросив со своих плеч бремя материальных забот. Дядя Сэм не отпустит меня с пустыми руками. И в предвидении этого я была готова простить ему подтрунивание надо мной.
Он по телефону распорядился приготовить обед на две персоны и проследить, чтобы вода в бассейне была хорошо подогрета. Я сказала, что не захватила с собой купальника, и он, рассмеявшись, сказал, что с моей фигурой можно купаться и нагишом. Тем более что никто из прислуги не будет подглядывать, она достаточно вышколена, а он сам не прочь бы полюбоваться, да настолько слеп, что вряд ли что-нибудь разглядит.
В Палм Спрингс мы въехали по длинной, вытянувшейся на многие мили среди ярких, как игрушки, домиков улице, именуемой Палм Кэньон, хоть ничто на ней не напоминало каньона, ущелья. Ровная асфальтовая улица курортного городка, построенного на выжженном песке пустыни и обильно орошаемого фонтанами-поливалками, вокруг которых зеленеет подстриженная трава, шелестят лапчатыми листьями пальмы и растут, как на дрожжах, сочные колючие кактусы. Справа все тянулись горы Сан Хасинто, намного выше прежнего громоздясь к небу сахарными головками. Металлические мачты подъемника убегали вверх по бурым склонам, унося к снегу подвесные красные трамваи, переполненные лыжниками в теплых свитерах и вязаных шапочках.
За окнами машины мелькали магазины и рестораны с яркими ярмарочными вывесками. Тротуары заполнены пестрой, по-летнему одетой курортной толпой. По асфальту проносились автомобили дорогих марок. Над Палм Спрингсом витал дух праздности, богатства и жажды развлечений.
Дядя Сэм обитал в Ранчо Мираж — самой фешенебельной части Палм Спрингса. Каждый дом здесь был непомерно велик и соперничал в богатстве с соседним. Участки большие, изумрудно-зеленые, как поля для гольфа, и повсюду кусты в цветах разноцветными пышными гирляндами окаймляют дома и дорожки под кипарисами и пальмами.
В доме было на удивление тихо. Ноги утопали в мягких коврах, задрапированные тканью стены поглощали звуки, прислуга была бессловесна.
Мы пообедали вдвоем. А до того, пока он принимал с дороги душ, я с наслаждением поплавала в теплой голубой воде бассейна под открытым голубым небом в начале февраля, и за верхушками кипарисов, ограждавших бассейн зеленой стеной, сверкали сахарной белизной заснеженные пики гор Сан Хасинто.
Прислуживал за столом немолодой, с лысиной лакей в белых нитяных перчатках, и дядя Сэм демократично представил ему меня, сообщив, кем я ему прихожусь. Лакей учтиво улыбался, и по его глазам было видно, что он не совсем верит дяде и подозревает его в шалостях не по возрасту.
В доме было много картин. Они висели во всех комнатах и даже в коридорах и на лестницах. Из-за чего дом немного смахивал на картинную галерею. По всему было видно, что картины здесь повешены не только для того, чтобы радовать глаз. Их здесь хранили, как ценность, точно в запасниках музея. Картины, вне всякого сомнения, были одной из форм капиталовложений, и вложений весьма значительных. Здесь были французы: Ренуар, Моне. И чудесный миниатюрный пейзаж Сезанна. Но самой приятной неожиданностью для меня были три работы Гогена. Таитянский период. Коричневые обнаженные фигуры таитянок с загадочными лицами каменных статуй на фоне золотого южного зноя. Дядя не оставил без внимания мой интерес к Гогену.
— Ты действительно любишь Гогена… или это дань моде? — насмешливо прищурился он на меня.
— О какой ты моде говоришь? — возмутилась я, — Я его обожаю! И знаешь, с каких пор? Когда мама меня впервые повела в Метрополитен. Мне тогда лет пять было… не больше. Мы ходили по залам. Я пялилась на стены с картинами. Мне было все интересно. Но вот меня что-то ослепило. Оранжевый свет хлынул на меня с полотна. Замерцал, заискрился, затопил все вокруг. Я даже зажмурилась, помню. И сердце мое забилось так сильно, и лицо мое застыло в таком восторге, что мама не на шутку испугалась, что я перевозбудилась и у меня подскочит температура, и поспешила увести меня из музея. Я действительно слегла. И поправилась лишь тогда, когда мама по совету доктора помчалась в Метрополитен и купила несколько репродукций с Гогена и повесила над моей кроваткой. С тех пор, засыпая, я говорила «спокойной ночи» шоколадным таитянским женщинам Гогена, а просыпаясь, желала им «доброго утра».
— А известно тебе, сколько стоит вот тот Гоген? — спросил он.
— Не знаю. Но уверена — очень дорого. Цены для меня — пустой звук. Торговать картинами я не собираюсь, а купить Гогена в подлиннике у меня никогда не будет средств. Я его люблю за то, что он есть… и приносит мне радость… и другим, думаю, тоже.
— До чего мне нравится то, что ты говоришь! — его улыбка утонула в расползшихся складках кожи. — Твои речи, я бы сказал, ласкают мое старческое ухо. Как ты себя такой сохранила, ума не приложу?
— Это плохо?
— Это чудесно! Глупыш! Я тебе завидую. Честное слово! Уж хотя бы потому, что мой восторг при взгляде на Гогена немного иного характера — я непременно вспоминаю, что в последний раз мне за вот эту штучку предложили полмиллиона. Наличными. И я, знаешь ли, отказался.
— Молодец! Правильно поступил.
— Собственно, куда мне спешить? Подожду. Деньги все падают, а такой вот Гоген будет расти и расти.
— Да не о том я! — рассердилась я. — Я сказала, что ты правильно поступил, не отдав картину и сохранив для себя эту прелесть. А ты снова о деньгах.