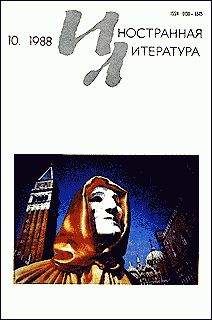— Для веры нет ничего невозможного. В этом вся ее суть.
Легийу снова умолкает. Я не выдерживаю и говорю:
— Не распространяйтесь о нашей беседе, ладно? Мне не хотелось бы, чтобы на борту думали, будто я занимаюсь антирелигиозной пропагандой.
— А вот попы своей пропагандой занимаются, да еще в открытую, — замечает Легийу, внезапно становясь антиклерикалом.
— Ничего удивительного. Они верят, что истина на их стороне.
— А вы не верите, что истина на вашей стороне?
— Не истина, а только ее крупицы, едва освещенные слабым сиянием разума.
Легийу явно разочарован таким ответом: моя философия не кажется ему утешительной.
Я мысленно возвращаюсь лет на двенадцать назад, к первым годам моих занятий медициной, когда мы с однокурсниками любили затевать беседы на подобные темы. Только в юности и можно всерьез спорить о загробной жизни. К тридцати годам все ставки уже сделаны. Одни становятся верующими, другие — атеистами. Если бы мне вздумалось обсудить данную проблему с кем-нибудь из офицеров — исключая, конечно, обоих курсантов, — мой собеседник, будь он верующим или безбожником, счел бы это проявлением дурного тона и попытался уйти от разговора.
А ведь если разобраться, то не найдешь лучшего места, чем ПЛАРБ, чтобы порассуждать о смерти и бессмертии. Наш образ жизни донельзя схож с монастырским. Ни в одной обители нет крепче стен, суровей устава, чем у нас. Что нам остается делать, покончив с повседневными заботами? Разбрестись по своим кельям и предаться размышлениям о спасении души. Но в чем оно, это спасение?
Я вовсе не собирался поднимать такого рода проблемы в разговорах с капитаном: он — верующий католик, участник молитвенных собраний, которые устраивает по воскресеньям Бекер у меня в лазарете. Но, встретив его в очередной раз в кают-компании, я решил воспользоваться своей репутацией «любопытного олуха», чтобы задать ему несколько наивных и в то же время каверзных вопросов.
— Скажите, капитан, мы можем быть уверены, что во время рейса нас не засекли?
— Полной уверенности у нас нет. Но надеемся, этого не произошло.
— Говорят, что новейшая советская атомная подлодка поражает гигантскими размерами и что у нас будто бы есть ее фотоснимок. А вот известны ли нам ее технические характеристики?
— Если у вас есть фотоснимок женщины, — с лукавой улыбкой отвечает капитан, — это еще не значит, что вам известны все ее тайные прелести. Не так ли, господин эскулап?
— О капитан, — говорю я со смехом, — что за сравнение! Особенно в ваших устах!
Он тоже смеется. Мы отхлебываем чаю, и я продолжаю:
— Капитан, вы читали сказку Киплинга о любопытном слоненке? Так вот, я похож на него: у меня к вам еще уйма вопросов.
— Слоненку следовало бы подрасти.
— Что я и делаю. Предположим, что в случае войны президента Французской Республики убьют или похитят, а наш центр радиосвязи в Ронэ уничтожат…
— Президент будет тотчас кем-то замещен. А центр связи дублирован. Все давно уже продумано.
— Хорошо, — говорю я. — Мы получаем приказ президента и выпускаем ракеты. А что потом?
— На этот счет у нас есть инструкции, — улыбается кеп, — но они строго секретные.
— Я могу поставить вопрос иначе. Что произойдет с подлодкой после того, как она произведет залп?
— Это уже не будет иметь никакого значения. Судите сами: если мы выпустим ракеты, значит, политика устрашения потерпела крах. И тогда воцарится хаос. Ничто на свете не будет иметь ни малейшего значения. В том числе мы и наша подлодка…
— Вы хотите сказать, что с нею будет кончено? Что ее постигнет участь пчелы, которая гибнет после того, как она кого-то ужалит?
— Видимо, да.
— Но почему?
— Ну, допустим, противник обладает системой траектографии, которая тут же позволит ему определить, из какой точки земного шара были запущены наши ракеты, и уничтожить нас.
— Равным образом можно допустить, — говорю я после краткой паузы, — что у противника найдутся заботы поважнее, чем уничтожение подлодки, потерявшей жало и, следовательно, уже безопасной. В таком случае мы могли бы вернуться во Францию.
— Ради чего? — спрашивает капитан. — Чтобы увидеть ее в руинах?.. Поверьте мне, господин эскулап, что с того момента, когда политика устрашения потерпит крах и мы выпустим ракеты, нас будет окружать совершенно иной, безумный, мир. Наступит апокалипсис, и уже ничто, ничто на свете не будет иметь значения.
…Я давно уже смутно предощущал то, что сказал мне сейчас капитан, только боялся поверить в это. Мы всячески стараемся отогнать от себя любую тягостную для нас мысль, и в этом наше спасение. Жить день за днем в ожидании неотвратимого конца было бы невыносимо. Однако среди ужасов, которыми грозит нам атомная война, страшнее всего не наша собственная смерть, а гибель наших близких, детей и внуков, гибель нашей страны и всей планеты. Homo sapiens, уничтожающий весь свой род и землю, его вскормившую, — что может быть страшнее?
— Верно, — говорит капитан, словно угадав мои мысли. И, помолчав, добавляет — Это верно, мы стоим на краю пропасти. Но с другой стороны, осознание надвигающегося кошмара позволяет нам дать отпор силам зла.
Как говорит Роклор, в прошлом — велогонщик, на этой неделе мы «выходим на финишную прямую». Впрочем, выражение это мало подходит для ПЛАРБ, которая вовсе не заботится о прямолинейности своего движения. Нетерпение, однако, охватывает всю команду, а уж меня и подавно. Стараясь хоть как-то подстегнуть время, я начинаю составлять медицинский отчет для своего начальства на Базе.
По вечерам, лежа на койке, так и этак прокручивая в голове свой отчет, я пытаюсь одновременно подвести итоги плаванья и в личном плане. Если с профессиональной точки зрения все складывалось хорошо, то в сугубо личном плане меня ожидали сплошные разочарования — я намекаю на упорное молчание моей «невесты». Каждую субботу я ждал от Софи весточки, и всякий раз она обманывала мои ожидания.
И все же я в целом выдержал испытание. Пресловутый «синдром пятой недели» меня не коснулся. Мелкие же срывы бывали довольно регулярно, чаще всего по утрам или после обеда. Я вдруг осознавал жуткую неестественность моего нынешнего положения, мною овладевали изумление и негодование. Я говорил себе: «Господи боже, да что же я делаю здесь, в этой жестянке, на дне морском? Нужно любой ценой вырваться отсюда! И увидеть небо!» После чего минуты две-три меня одолевало дикое желание распахнуть окно, хотя я прекрасно знал, что никаких окон здесь нет и быть не может. Но сама ирреальность бунта — распахнуть окно, вырваться на волю, увидеть небо — понемногу смягчала ирреальность ситуации и примиряла меня с ней. «Что ж, пора надевать хомут», — говорил я себе, совсем как в студенческие годы, когда подходили к концу каникулы.
Всего поразительнее в ремесле подводника — я не раз убеждался в этом за время рейса — чувство собственной значимости на борту. И его не назовешь иллюзорным: им проникнуты все, начиная с инженеров и дипломированных техников, от которых здесь действительно многое зависит, и кончая последним матросом. Сознание того, что ты играешь на корабле важную роль и что от тебя зависят и безопасность и благополучие всей команды, — сознание это не покидает каждого из нас, помогая справиться с самым тяжким из лишений — отсутствием солнца.
Курсант Верделе великолепно сыграл на этой нашей тоске по открытому небу, когда устроил в столовой очередной литературный вечер, на сей раз посвященный творчеству Бодлера. В программу было включено стихотворение в прозе «Чужестранец» — наш командир особенно ценил эту вещь и сам передал чтецу текст. Впрочем, простым чтецом его не назовешь: перед тем как поступить в Национальную административную школу, Верделе изучал основы сценического искусства. Стихи он читал не по бумажке, а декламировал наизусть — сотнями строк. Уже одно это произвело впечатление на слушателей. «Башковитый парень, что и говорить», — высказался о нем Бишон, выражая всеобщее восхищение.
Декламировал Верделе действительно здорово. Когда он дошел до «Чужестранца», особенно до последней фразы, которую произнес просто потрясающе: «Я люблю облака… облака, что проплывают над нами… там, в вышине… волшебные облака», то вся аудитория замерла. Потом все очнулись, бурно захлопали, попросили прочесть «Чужестранца» на «бис», что, разумеется, и было сделано! Двое слушателей протиснулись к исполнителю и попросили переписать для них фразу, столь многое говорившую их сердцам. На следующий день ее повторяло пол-экипажа.
Я лежу и вспоминаю этот вечер, а в коридоре рядом с моей каютой слышатся крики, шум, смех. Со всяческими предосторожностями — быть может, все это нарочно подстроено для того, чтобы выманить меня наружу, — я приоткрываю дверь и выглядываю. Оказывается, оба наших курсанта вместе с Анжелем, Каллонеком и Сент-Эньяном затеяли игру в войну: они обстреливают друг друга из водяных пистолетов, которые протащил на борт Верделе вместе с уймой других забавных штуковин.