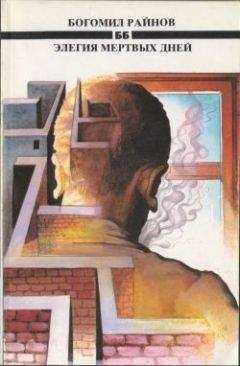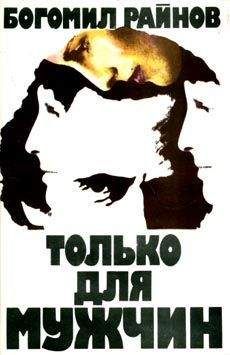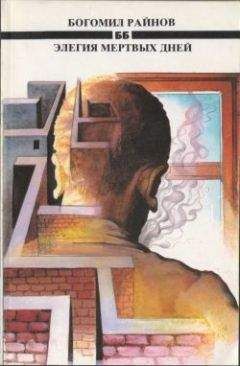— Можешь приютить меня на денек-другой у себя? — спросил знакомый, кутаясь в тонкий плащ.
— Исключено. Я сам не ночую дома. Разругался со стариком, — ответил я и в свою очередь поплотнее завернулся в свой потертый макинтош.
— Ну, все-таки ты где-то ночуешь…
— У брата. Но там тебя пристроить не могу. Исключено. Он живет у тестя.
Мы завернули за дощатый забор, чтобы укрыться от леденящих порывов ветра, и принялись обмозговывать ситуацию. После долгих прикидок выбрали три адреса. И потащились в неизвестность.
В двух местах установили, что мои знакомые отсутствуют. Ничего удивительного — они тоже были ребятами из провинции и на праздники отправлялись по домам. По третьему адресу нас тоже отказались принять. И это было вполне естественно. Особенно в ту мерзкую зиму сорок второго.
Мы снова оказались на улице, пронизываемые морозным вихрем, который, казалось, задался целью раскромсать наши жалкие одежки. И пока мы оставались на распутье и переминались с ноги на ногу на заледеневшем тротуаре, я внезапно вспомнил о Мишеле. Связываться с Мишелем, конечно, было гиблым делом. Но как бы то ни было, это был последний шанс. Кроме того, я испытывал какое-то смутное и немного жестокое желание припереть к стенке его, этого поклонника красоты, который впадал в ужас при мысли, что кто-либо может повесить ему на шею свои заботы.
Хотя перевалило за полночь, но когда мы добрались до места, оказалось, что в окне Мишеля еще горит свет. Вероятно, по случаю рождественской недели. Или Мишель попросту никак не мог оторваться от романа Уайльда и афоризмов лорда Генри.
Хозяин принял нас в темно-синем шерстяном халате, с холодно-учтивым выражением на лице. Я ожидал, что он прямо на пороге примется выяснять причины нашего визита и, узнав, в чем дело, деликатно захлопнет дверь у нас перед носом. Вместо этого мы были приглашены в уютную однокомнатную квартирку и даже одарены стаканом вермута. Моя смутная надежда связывалась, разумеется, не с комнатой, а с находившейся рядом кухонькой, в которой стояла узкая кушетка. Выпив вермут, я выразил свою надежду вслух. Однако, как я и предполагал, Мишель возразил:
— На этой кушетке просто невозможно спать. И вообще, какая это кушетка? Это обычный пуфик для сиденья.
Я попытался убедить его в обратном. Обратил его внимание на хилое телосложение моего приятеля.
Высказал несколько похвальных слов в адрес школы стоиков. Припомнил, какие достойные люди воспитывали в себе привычку спать даже на гвоздях. В конце концов, к моему глубочайшему удивлению, Мишель капитулировал.
— Вчера ты поступил не больно красиво, — заметил он на следующий день, когда мы встретились в „Кристалле". — Следовало бы меня предупредить.
Мы были уже давно на „ты".
— Прости, но у меня не было другого выхода.
— Впредь прошу не подсовывать мне разных там подпольщиков.
— Он не подпольщик.
— Знаю я, кто он такой. Он же из моего родного города.
— И что же? Ты его выгнал?
— Да как я мог его выгнать! Было бы слишком грубо… После того, как я его приютил…
— Почему же ты его приютил?
Он пожал плечами.
— Откуда мне знать, почему? Должно быть, потому что вы пришли совсем окоченевшие. Или из-за того, что припомнилась одна сказка Уайльда, моего учителя.
— Какая сказка?
— Есть такая сказка о Великане-эгоисте. Ты не читал? Я не хочу сказать, что считаю себя великаном, но тем не менее не желаю прослыть эгоистом.
Мой знакомый прожил у Мишеля целый месяц, пока наконец не отыскал себе другое пристанище. Я допускал, что это вынужденное сожительство порядком нарушало привычное расписание дня поклонника красоты. Но даже если дело обстояло так, тот ни разу не выразил своего неудовольствия.
Позднее я потерял его из виду. Как я понял, он пристроился на работу в своем родном городе. И следующая наша встреча произошла именно в его родном городе сразу после войны.
Я был приглашен туда выступить с каким-то докладом. После выступления в группе местных знакомых, ожидавших меня у выхода, я узрел Мишеля. Он, как мне показалось, совсем не изменился, выглядел так, словно мы расстались вчера, а не пять лет тому назад. Та же скромно элегантная внешность, то же бледное лицо, тот же безучастный взгляд светлых глаз, серых и холодных, как зимнее море.
Пока я перебрасывался фразами со знакомыми, он, улучив момент, полушепотом сказал:
— Пошли ко мне… Если ты не договорился с кем-то другим…
Кажется, это происходило в начале июня. Когда мы вышли на улицу, было еще светло и воздух в этом ужасно жарком и пыльном городе только начинал остывать.
— Надеюсь, ты не будешь сердиться, если мы на минутку заскочим в редакцию? Правда, буквально на минутку.
— В какую редакцию?
— Ну… я теперь журналист… — пробормотал он с некоторым смущением, будто признавался в каком-то прегрешении.
— Э, значит, я был прав. Помнишь, я тебя спрашивал, не пописываешь ли?
— Тогда я действительно ничего не писал.
— А когда начал?
— Ну, вскоре после Девятого сентября. Прижал меня этот, твой знакомый, то есть наш знакомый, который жил у меня. Прижал меня сразу после Девятого.
В редакции мы установили две вещи: что главным редактором был сам Мишель и что обещанная минутка вряд ли не растянется на добрые часы. Помимо того, что следовало просмотреть уже набранные три полосы, надо было еще выбросить передовую статью и найти ей замену.
Я пытался справиться с жарой с помощью теплого лимонада из анилиновых красителей и сахарина и краем глаза наблюдал, как он строчит на машинке, зажав сигарету в зубах и морщась от дыма. Все-таки он изменился. Лишь костюм был прежний, то есть это был один из тех костюмов, которые он носил пять лет назад, — костюм хоть и не первой молодости, но безупречной чистоты. Рубашка тоже вряд ли была куплена в последние годы, да, пожалуй, и галстук тоже. Вообще, на всем его облике лежал легкий отпечаток поношенности, в частности и на бледном лице, приобретшем едва уловимый оттенок озабоченности или же просто утратившем беззаботное выражение.
Когда наконец мы снова вышли на улицу, уже смеркалось и чувствовалось дыхание прохлады.
— Чуть не забыл о вине, — спохватился Мишель, когда мы поравнялись с каким-то заведением. — Надо прикупить винца.
— Что, в библиотеке уже не держишь? — спросил я, когда дело было сделано.
— Зачем мне? Один я не пью, женщин не приглашаю…
— И с женщинами ни-ни?
— Куда там, ведь я женат.
— Остепенился, женился… Должно быть, уже и деток завел?
— Пока что одного, — скромно признался Мишель. — Годовалый. Однако есть предчувствие, что пополнение не заставит себя ждать.
Его жена встретила нас радушно, но особо тратить на нас время позволить себе не могла, поскольку как раз в тот момент переодевала ребенка. Если судить по ее виду, она вряд ли успела окончить гимназию или же только теперь готовилась к этому важному событию. Что не мешало ей заниматься хозяйством с особой сосредоточенностью и серьезностью, и это было вполне объяснимо, если принять во внимание, что единственная комната была набита мебелью, домашней утварью, развешенным на веревках бельем, не говоря уже о наследнике, который верещал, катаясь по постели.
— Давай перейдем в кабинет… — пригласил меня Мишель.
Кабинет оказался кухонькой, в которой, словно в каком-то сюрреалистическом кошмаре, ночные горшки и утварь перемежались солидными научными томами, а на столе рядом с пишущей машинкой смиренно покоилась связка репчатого лука.
Спустя два часа или, говоря профессиональным языком, после двух бутылок, поджаренные на скорую руку отбивные были проглочены, супруга-гимназистка удалилась в спальню, малыш перестал верещать, и мы с Мишелем остались одни с воспоминаниями.
— Перебирайся на лавку, — предложил он. — Там пошире. Чего в этой кухне только нет…
— Красоты нет, твоей красоты, — следуя его совету, пробормотал я. — Эх, Мишель, Мишель!..
— Верно, ты прав, — согласился хозяин. — Но самое странное, что я даже не вспоминаю о ней. Так меня захватила работа… Сначала я думал, что это на месяц-два, пока они не найдут другого человека. А потом меня так затянуло…
— Нет здесь и места для Оскара Уайльда, — продолжил я свои подначки, обводя взглядом тома на противоположной полке.
— Не может не быть. Наверное, завалился куда-то. Хотя правда — он несколько лет не попадался мне на глаза.
— Э, как же так?.. Настольная книга…
— Я эту настольную книгу и так знаю наизусть.
Он положил локти на стол, прихватил пальцами края жилетки, зажмурил глаза и принялся декламировать:
— Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.