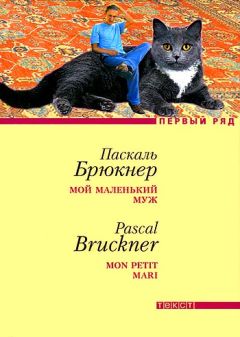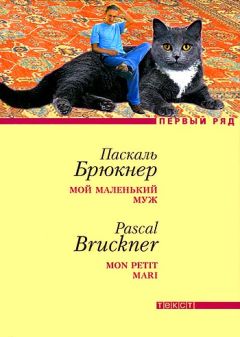Не успев опомниться, Леон взмыл вверх. У него закружилась голова. Он твердил про себя: «Я люблю мою семью, любовь окрыляет, я ничего не боюсь», но сам не верил ни единому слову. Метафоры — опасная штука. На этот раз, понял он, ему и вправду конец. Окаянная птица раздробит ему череп одним ударом клюва или же сбросит с тридцатиметровой высоты, а когда он разобьется насмерть, слетит и сожрет его одним глотком.
Но вороне мешал дождь, ее перья отяжелели, и она не успела взлететь высоко. В критический момент и трус проявляет отвагу, ибо действует, не раздумывая. Леон все еще держал в руках крюк и принялся бить им по лапам вороны с такой силой, что они разжались. Горизонт озарился каким-то туманным светом. Леон полетел вниз и приготовился погибнуть, ударившись о железо или бетон.
Он упал в сетку, она спружинила, и его несколько раз подбросило, как на батуте. Дрожа от холода и страха, он дополз до приоткрытого окна кухни, по дороге убедившись, что синичка благополучно выпуталась из сети и сумела улететь, несмотря на сломанное крыло. Из последних сил он подтянулся, ухватившись за подоконник, свалился на пол кухни и там, в натекшей от дождя луже, оглушенный, с окровавленными руками и коленями, тотчас уснул. Он даже не почувствовал, как Финтифлюшка облизывала его, согревая.
Он проспал пятнадцать часов кряду.
А потом произошло нечто невероятное: Леон взбунтовался. За одну ночь он отринул все перенесенные муки, все унижения. Кошка спасла ему жизнь; он спас жизнь синичке. Пора было спасаться самому. Как он мог так долго терпеть притеснения и не роптать?
Вчера он преодолел себя — что ему мешает делать это каждый день? Иной раз стоит оказаться на волосок от смерти, чтобы вновь обрести вкус к жизни. Неужели он будет сидеть и дожидаться возвращения своих мучителей, чтобы дать себя уничтожить, соскрести, как грязь со стены, только потому, что они — его семья? Он забрался на туалетный столик Соланж и посмотрелся в зеркало. Собственный вид его ужаснул: грязный, обросший, нечесаный, в лохмотьях — пещерный человек, да и только. Вдобавок голова и руки сплошь покрыты коростой. Какая мерзость — не то мерзко, что он уменьшился, а то, что так себя запустил.
Это была настоящая революция, буря в душе маленького человечка. Волна возмущения захлестнула его. Как он мог быть таким слабаком, таким трусом? Леон клял себя, ругал последними словами, даже бил по щекам.
К полудню он принял решение. Собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и стал ждать консьержку, которая каждый вечер приходила кормить кошку. Как только в замке повернулся ключ и входная дверь открылась, он юркнул на лестницу.
Бегство — лучшая месть.
Свободен, наконец-то он свободен!
И не важно, какие беды и невзгоды ждут его впереди, главное — теперь он сам себе хозяин.
Он начал осторожно спускаться по лестнице. Каждая ступенька была выше его, приходилось прыгать, приземляться на ковровую дорожку, идти к краю и снова прыгать. Это были перпендикулярно расположенные утесы равной высоты с отвесными склонами. Дорожка крепилась к ним золочеными металлическими прутьями. В любой момент Леон мог сорваться, пересчитать все ступеньки и переломать кости.
Когда остался позади пятый этаж, почему-то стало легче, и он с удивлением понял, что скачет со ступеньки на ступеньку без усилий, почти как в лучшие времена.
На четвертом этаже он обнаружил перемены: окно лестничной клетки, витраж в стиле модерн конца девятнадцатого века, вернулось на привычный уровень, потолок приблизился, а лифт уже не казался огромным. И теперь, стоя на ступеньке, он доставал ногой следующую.
Что же произошло?
Просто-напросто чудо.
Чудо располагается по ту сторону беды; чудо вознаграждает страдальцев, тогда как беда не разбирает, кто прав, кто виноват.
Вот какое произошло чудо: удаляясь от семейного очага, ЛЕОН НАЧАЛ РАСТИ. И вместе с ним росла его одежда! Спуститься, как выяснилось, для него значило подняться — и главное, подняться в собственных глазах. На долю Леона уже выпало столько напастей и диковинных чудес, что он не слишком удивился этому феномену.
На втором этаже — спускаться было с каждым пролетом все легче — Леон убедился, что вновь обрел свое прежнее тело. Он ощупал свою голову, поднял руки, посмотрел на ноги, вдруг оказавшиеся далеко-далеко внизу, — у него даже голова закружилась. И все это держалось, он не рассыпался, как слишком высокий домик из кубиков под действием земного притяжения. Он снова стал тем же человеком, что восемь лет назад, — ростом метр шестьдесят шесть.
И надо было всего-то навсего уйти из семьи!
Леон не спешил давать волю своей радости, боясь в очередной раз обмануться. Наверно, он видит сон: это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Еще миг — и он снова пойдет на убыль, сожмется, точно меха аккордеона.
Он спустился еще на пролет, и тут дверь подъезда открылась, послышались топот и веселые голоса. Он тотчас узнал их: в холл, толкаясь, входили его дети, Соланж придерживала дверь, а Дубельву отгонял машину в гараж. Леон совсем забыл, что как раз сегодня они должны вернуться. Останься он наверху, у всех на виду, его бы мигом прихлопнули, как мерзкое и зловредное насекомое. Он содрогнулся. В это трудно было поверить. Дети, которые так весело хохочут, не могут стать убийцами, даже по недомыслию. От их переливчатого смеха, от знакомых интонаций Соланж у него подкосились ноги. Это же родные люди, плоть от плоти его. Все, что было, лишь недоразумение, он должен дать им еще один шанс.
Они уже поднимались в лифте на шестой этаж, возбужденно переговариваясь: насколько он понял, через несколько дней семейство снова уезжало, на сей раз в Италию — Дубельву снял домик в Тоскане. Подумать только, в Тоскане! Да они просто купаются в роскоши, профессор ни в чем им не отказывает! Леон услышал, как Дубельву, навьюченный огромными чемоданами, тоже вошел в лифт, подождал немного и поднялся по лестнице, все еще нетвердо держась на казавшихся очень длинными ногах и удивляясь, что может с такой быстротой одолеть столько километров. Он остановился на своем последнем этаже и позвонил.
Дверь оказалась не заперта, он толкнул ее и из прихожей увидел всю ораву сквозь застекленную дверь гостиной. Дети полдничали за большим столом, шумно и весело уписывали булочки с изюмом, шоколад, печенье. Все были загорелые, отдохнувшие, один другого краше, с отросшими, выгоревшими на солнце шевелюрами. Профессор Дубельву, посмуглевший и обветренный, как заправский морской волк, вдобавок отпустивший черную с проседью бороду, качал на коленях Беренис. Леон откашлялся и сам удивился, что сумел внятно произнести следующие слова:
— Соланж, дети, это я, папа, я вернулся.
Он неуверенно шагнул к ним, понимая, что грязен и выглядит отвратительно. Как все вскрикнули в один голос от ужаса при виде его! Они, наверно, не визжали бы так, явись им сам дьявол. Челюсти отвисли, ложки со звоном упали. Вокруг Леона словно образовалось кольцо священного ужаса. Близнецы нырнули под стол, старшие спрятались за юбки Соланж, а Дубельву, дрожащий, изумленный, встал во весь свой внушительный рост, загородив ему дорогу.
Странное дело: этих людей, перед которыми Леон трепетал, он теперь ничуточки не боялся. Они, как и прежде, были выше его ростом — по крайней мере, взрослые, — но казались совершенно безобидными. У него имелся козырь: кто еше может увеличиваться и уменьшаться в мгновение ока, как по волшебству? Он повторил:
— Детки, это я, Леон, ваш папа, я опять такой, как был, сейчас я вам все расскажу.
Бледный, как полотно, Дубельву пробормотал:
— Кто вы такой, месье, что вы делаете в моем доме?
— Нет, это вы, месье, с какой стати живете в моем доме?
Соланж закатила глаза и осела на пол, перепуганные дети разбежались кто куда. Из кухни примчалась на крик гроза Леона Жозиана; увидев его, она трижды перекрестилась и ринулась вон из квартиры. Леон и Дубельву одновременно бросились к потерявшей сознание Соланж и, наклонившись, стукнулись лбами. Дубельву с перепугу решил, что его бьют, и отпрянул, прикрывая руками лицо. Леон подхватил Соланж за плечи, чтобы перенести на диван, нашел ее неожиданно тяжелой и по выпирающему под льняным сарафаном животу понял, что она снова беременна.
Это сразило Леона: он один имел законное право делать ей детей, только от его трудов мог округляться, наполняясь, этот шелковистый живот! Соланж открыла глаза, в которых было больше ненависти, чем страха, и вырвалась, отпихивая его руки. Увы, возвращению мужа и отца с того света были не рады. Не в силах выдержать ее взгляд, Леон попятился, забормотал что-то бессвязное. Сбивчиво, с пятого на десятое, он принялся рассказывать им о своей жизни в последние несколько месяцев: как прятался в сокровищах всемирной литературы, как спас синичку, как пережил последнюю метаморфозу на лестнице. Увлекшись рассказом, он выкладывал подробности и выглядел все более безумным. Дубельву попытался сформулировать резонный вопрос: