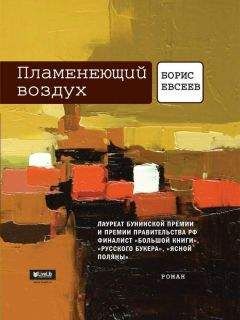Близ того моря похаживал незлобивый падре Мартини, у теплых лиманов оглаживал смешливых девушек по плечам Петруша...
Но тут же в ум вступала Алымушка. Ее непоказная, медленно, год от года расцветающая краса была куда приязненней италианской пышности.
Вспоминалась Алымушка — вспоминался и Иван Иванович Бецков. Грозный взгляд Президента Академии, проникая глубоко, высверливал душу воспитанника до дна.
Уж больше двух лет не имел Евстигней об Алымушке верных известий. Говорили всякое. Только не всему сказанному верилось. Знал твердо одно: завершив обучение, выпущена госпожа Алымова из Смольного института с золотою медалью и золотым вензелем, от самой императрицы пожалованным...
Ходили, однако ж, упорные слухи: Иван Иванович Бецкой и по окончании Алымушкой Смольного строгого надзора за ней не утратил.
«Недоступна! С эдаким неусыпным Цербером — ни с какой стороны недоступна. Не токмо руке ласкающей (что и в мыслях великая дерзость), недоступна даже беглому взгляду!»
Застонав протяжно — благо рядом никого — Евстигней не без труда, а все ж таки вернулся мыслями к Италии. Письмецо Петрушино решено было перечесть еще раз.
Глава тринадцатая Бецкой и Алымушка
Меж тем судьба Алымушки еще три года тому назад стала проясняться.
А прояснившись — решилась бесповоротно.
Тому предшествовали долгие месяцы препирательств и даже борьбы, предшествовали события почти что удивительные, когда б не были они по тем временам весьма и весьма обыкновенными.
Незадолго перед завершением Алымушкой обучения Иван Иванович сделал ей вопрос. Привезя воспитанницу к себе домой, церемониально отставив назад ногу и задирая кверху обвисающий подбородок — отчего казалось, разговор ведется с развешенными по стенам портретами, — изрек глуховато:
— Кем вы, Глафира Ивановна, желали бы видеть меня в дальнейшей своей жизни: отцом или... или мужем?
Запинка меж словами получилась слишком уж длительной, явной.
Зря, однако, Иван Иванович запинался!
Давно приуготовленная к такому вопросу тонкими ласками, осязаемым вниманьем, сценами ревности и легчайшими поцелуями (сперва через вуаль, а потом и без оной), да и еще кое-чем, семнадцатилетняя Алымушка ненадолго смежила веки. Словно бы размышляла.
— Ценю ваши сомнения и колебания. Разумею: семидесятилетний старец и юная девица — как им друг другу соответствовать? Имеете резон, Глафира Ивановна, спросить и другое: способен ли я что-либо сурьезное для вас сделать? Могу ль осчастливить? Могу ль...
Тут Иван Иванович еще раз запнулся. Рассудительность его покинула. Кинувшись к ногам полулежавшей в креслах ученицы, заговорил он быстро, без перерывов, заговорил, боясь быть прерванным и выдворенным вон:
— Я дам вам все!.. Нет той силы, которая была бы способна меня остановить! Нет того человека и той преграды...
— Государыня... Испросите разрешения у государыни императрицы.
Голос Алымушки свеж, отнюдь не прерывист, хотя и тих. Иван Иванович разрыдался. Преграда все ж таки была! Не отирая слез, он встал, засновал бессловесно близ полулежащей Алымушки.
— Хорошо-с, — вдруг нашелся Иван Иванович. Он весело смахнул слезинку, за ней другую. — Сразу же после выпуска у государыни и спрошу. Но лишь совета! Не позволенья! Не...
— Извольте говорить с ее величеством нынче же. Чего и ждать. Я ведь сама от сих ожиданий изнемогла!
Иван Иванович оглянул Алымушку с жадной нежностью.
— Немедля закладывать... Во дворец... Скорей… — хрипел он через минуту в прихожей. — К Катеринх-х-х... Катеринх-х-х…— дважды поперхнулся он излишними словами, но тут же поправился: — К государыне!
Разговор с императрицей дела не развязал.
Не помогла даже неслыханная, никогда ранее не имевшая места дерзость: он осмелился затопать на Катеринхен ногами.
Государыня твердо стояла на своем. Испугавшись — уперлась: в женитьбе Иван Иваныча чуялся ей переход запретной черты, чуялось (в будущем) нешуточное наказание, едва ль не расплата.
Совсем недавно — в апреле 1776-го — умерла в родах супруга наследника. Умершая Алымушке покровительствовала. Самолично помогала ей учиться игре на арфе. Потом — вдруг взревновала. Был ли повод? Может, и был.
«Невозможно... — едва слышно шептала государыня. — Деду на внуковой (пусть даже мнимой) полюбовнице жениться? Невозможно! А коли и не дед он Павлу Петровичу? Коли враки, что ей отец? Да ведь кто теперь это с точностию разберет!»
Дальнейшие извороты разговора стали государыню тяготить.
Вот тут, после слов: «Никогда не бывать сему альянцу» — Иван Иванович ногами на Катеринхен и затопал.
Дерзость беспримерную, дерзость неслыханную передавать словами в последующие дни во дворцах и гостиных не осмеливались. Передавали таинственными знаками и театральными жестами.
Один из представлявших, изображая невежу Бецкова, начинал, по обыкновению, туповато и по-стариковски чуть судорожно постукивать тростью: сперва едва слышно, потом сильней, сильней, и уж вскоре — тупотел ногами что есть мочи.
Другая — представляла саму императрицу. Достойными и плавными жестами изображались ее чистота и стойкость, и непужливость тож. Некоторые из посвященных пытались даже изобразить, как гордо вскидывала государыня голову (становясь как две капли воды на Ивана Ивановича похожей) и при том восклицала: «Не бывать сему альянцу!».
И лишь последний эпизод той волнительной сцены никем и никогда не разыгрывался. Ни телодвиженьями, ни жестами не изображался. Никто не решался повторить неслыханного: после долгой нервической беседы государыня порывисто поднялась и, улыбаясь сквозь слезы, поцеловала у Ивана Ивановича руку.
Виновато поцеловала и словно бы прося прощенья...
У Бецкого оставалась надежда: вдруг как на выпускном балу Алымушка кинется государыне в ноги, вымолит разрешение на брак с ним?
Однако императрица на первый выпуск смолянок пожаловать не соизволила. Да и сама Алымушка ни к чьим ногам кидаться, кажется, не собиралась.
Хотя перед самым выпуском о замужестве и заговорила.
Но о каком! И как!
Какой-то Ржевский, вдовец. Немолодой, но, ясное дело, вертопрах. Средней руки чинуша, жалкий литераторишка! И конечно — жидких кровей, кажется даже полячок. Да еще и мартинист вдобавок!
Иван Иванович устроил сцену. Греческие авторы могли бы завидовать.
Не помогло. Иван Иванович добавил рыданий и обмороков — никакого воздействия.
Семнадцатилетняя Алымушка, еще полгода назад уступавшая ему почти во всем (раздеваясь, допускала к груди, позволяла уронить влагу на пупочек, даже и ножки развести до определенных природой пределов позволяла), вдруг выказала невиданную твердость.
В твердости виделся Ивану Ивановичу расчет. Он сменил тактику.
Прервав встречи с Алымушкой на день-другой, возвестил ей после перерыва с печалью:
— Милое дитя! Скорейшее устроение вашей судьбы посредством замужества — обдумано мною бесповоротно. Да только вот беда: кто замуж-то вас возьмет?
— Я ведь сказывала: Ржевский Алексей Андреевич, мой жених.
— Имел я беседу с сим господином. Имел... Тут незадача... Замуж-то вас брать он вовсе не собирается. Наложницей, вам, ученой смолянке, быть предназначил! И со многими о том уж разговоры имел.
Алымушка, вспыхнув, убежала. Свадьба была расстроена. В один день с претендентом оборвались все связи. Иван Иванович ликовал.
Дело спас случай.
Григорий Орлов на одном из балов, на каковые смолянок возили пообтереться, подойдя к Алымовой, спросил о причинах столь резкого разрыва с другом его Алексеем Андреевичем Ржевским. Фавориту императрицы — пусть даже и отступившему на время в тень — следовало отвечать. Алымушка и ответила. В том смысле, что брать ее в жены господин Ржевский, кажется, вовсе не собирается. Иные, как выяснилось, у него намерения.
— Как же ему не собираться, любезная Глафира Иванна, коли шафером меня на свадьбе вашей быть просил?
Дело было возобновлено и в три дни улажено. Этот брак императрица одобрила. Бецкой вынужден был отпустить Алымушку замуж. Свадьба не была пышной, не гремела по Петербургу, как того возможно было ожидать, исходя из расположения императрицы к Алымушке. Правда, некоторые из высших лиц империи — кто во время венчания, кто на свадебном балу — присутствием своим торжество почтили.
Прибыла на короткое время и государыня.
Сил явиться на свадьбу Иван Иванович в себе не сыскал. «Свадьба-то моя собственная, да только жених на ней — чужой!»
Впрочем, считая себя Алымушкиным опекуном — и многими до недавних пор таковым признававшийся — попечением молодых он не оставил. То скрытыми угрозами, то притворной лаской вынудил переехать к нему на жительство.